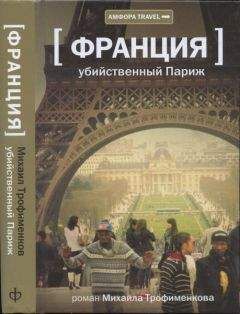Джеймс Гринвуд - Маленький оборвыш
– Смотрите на меня, мальчик! – приказал судья, ударив рукой по столу так громко, что у меня захватило дыхание.
Я взглянул на него и струсил еще больше; он смотрел прямо на меня своими зелеными глазами, а двадцать полицейских покорно стояли вокруг, готовые повиноваться малейшему его знаку.
– Не смотрите на арестанта, мальчик (в это время Нед Перкс кашлянул и я повернул голову в его сторону), смотрите постоянно сюда! Понимаете ли вы, что значит давать присягу?
Моульди, особенно любивший разговоры, касавшиеся суда, объяснил мне это, и потому я ответил:
– Это значит целовать Евангелие и клясться, что если соврешь, так будешь наказан.
Глаза мои были прикованы к уставленным на меня зеленым очкам, так что у меня навернулись слезы, как будто я смотрел на солнце.
– Да, если вы, дав присягу, соврете, – все тем же строгим голосом продолжал судья, – вы будете строго наказаны, вас сошлют за море на каторжные работы. Приведите его к присяге, экзекутор, а вы, подсудимый, не смотрите на свидетеля, пока его допрашивают.
Как я мог не говорить при таких условиях? Судья был такой суровый человек. Он, казалось, знал все дело и предлагал мне такие вопросы, на которые я волей-неволей вынужден был подробно отвечать. Я рассказал все: как я ушел из дому, как миссис Уинкшип поместила меня к мистеру Бельчеру, какой разговор у меня был с Сэмом по поводу чистки церковных труб, словом все, до той самой минуты, когда, испуганный появлением мертвой руки, я выпрыгнул вон из телеги. После меня лесничие Томас и Джозеф дали свои показания, а затем было решено отложить дело на неделю, чтобы полиция успела поймать мистера Бельчера и доставить его в суд.
– Мальчика лучше всего отправить домой к родителям; кто поведет его, тот пусть построже внушит его отцу, что через неделю непременно надо опять привести его сюда! – сказал судья в зеленых очках.
Суд занялся другим делом, а я вышел на улицу вместе с лесничими и несколькими полицейскими. Они потолковали о чем-то между собой, и все вместе вошли в соседний трактир, а я, едва сознавая, что делаю, поплелся вслед за ними. Я был совсем ошеломлен; ошеломлен не ослепительным блеском зеленых очков, не тем, что мистера Перкса опять повели в арестантскую. Нет, меня ошеломили ужасные слова: «Мальчика всего лучше отправить домой к родителям!» Эти слова довершили беду, какую я на себя навлек тем, что вмешался не в свое дело.
«Лучше отправить домой!» Лучше, чтобы я явился к отцу с полицейским, который расскажет ему о моих отношениях с гробокопателями и о том, что меня поместила к ним ни в чем не виноватая миссис Уинкшип! Да он просто убьет и меня, и бедную старуху! И этим-то я отблагодарю ее за доброту! Нет, это слишком ужасно! Я должен сделать что-нибудь, чтобы предотвратить это несчастье, и я сделаю, непременно сделаю, хотя бы для этого мне пришлось ослушаться страшного судьи в зеленых очках.
Мне необходимо было ускользнуть от моих теперешних сторожей, выбраться из Ильфорда и спрятаться в каких-нибудь лондонских закоулках. Я говорю «от моих сторожей», но на самом деле меня, казалось, никто не стерег. Я попробовал выйти из той комнаты, где лесничие и полицейские пили пиво, они не обратили на меня внимания, я вышел на двор, затем на улицу, никто не преследовал меня. Значит, я могу уйти без помехи! Но я знал, что полицейские – народ хитрый, что они следят за всяким исподтишка, и потому решил вернуться, посидеть некоторое время в распивочной и послушать, о чем там говорят. Оказалось, что полицейские говорили обо мне.
– А, вот и он! – заметил один из них, когда я вошел. – Ты бы держался поближе к нам, мальчик, а то, пожалуй, тебя схватит тот молодец с ружьем.
Это, должно быть, была шутка, потому что другой полицейский и лесничие засмеялись.
– А что, мальчик, – спросил один из полицейских, – рад ты будешь попасть домой и избавиться от всех опасностей?
Я знал, что если я скажу, что не хочу идти домой, то полицейский станет особенно строго присматривать за мной. Поэтому ответил:
– Конечно, я буду очень рад, я бы хотел поскорее пойти домой, теперь уж я больше не убегу.
– Ты знаешь дорогу отсюда домой?
– Отлично знаю, сэр. Можно мне прямо сейчас идти?
– Нет, ты не можешь идти туда, пока я не освобожусь от своих занятий и не отведу тебя. Это будет часа в четыре, когда кончатся заседания в суде. Но ты не обязан непременно сидеть здесь, ведь ты не арестант, а свидетель. Можешь пойти в полицейский участок, посидеть там или просто погулять по улице. Только не заходи далеко.
Я едва мог удержаться от выражения моего восторга при этих словах полицейского. Я не арестант, я свидетель и могу гулять!
– Благодарю вас, сэр, – произнес я и вышел из трактира с беспечным видом прогуливающегося человека.
Тихими, неторопливыми шагами пошел я по Ильфордской дороге, которая вела прямо к Лондону. Я переложил шиллинг, подаренный мне мистером Бельчером, из моих мокрых лохмотьев в карман сухого и удобного платья, данного мне в полицейском участке. На этот шиллинг я решил взять себе место в первой попавшейся телеге, которая будет ехать в Лондон. Счастливый случай избавил меня от этого расхода. Как только я завернул за угол улицы, так что дом суда скрылся из моих глаз, меня догнал экипаж, запряженный парой лошадей, с очень удобными запятками, не утыканными гвоздями. Я ловко вскочил на них и помчался к Лондону с быстротой десять миль в час.
Я проехал через большой и малый Ильфорд, доехал до самого Майл-Энда, но тут должен был сойти со своего удобного экипажа, благодаря низости одного мальчика моих лет. Ему также хотелось прокатиться даром, и, видя с досадой, что на запятках нет места, он стал требовать, чтобы кучер согнал и меня. Кучер, завязавший в это время интересный разговор с лакеем, сидевшим на козлах, был, вероятно, вовсе не благодарен маленькому негодяю, однако послушался его и согнал меня. Я был так рассержен на дрянного мальчишку, что не мог отказать себе в удовольствии надавать ему тумаков, хотя эта задержка в пути могла быть для меня опасной.
Конец дороги мне пришлось проделать пешком, но несмотря на это, я часа в два был уже около Уайт-Чепеля. Я совсем не знал этой части города, но под Арками я познакомился с несколькими мальчиками, пришедшими оттуда, и они рассказали, что это самое глухое место Лондона. В моем теперешнем положении мне именно это и было нужно: глухое место со множеством проходных дворов и извилистых переулков. Первым и величайшим моим желанием было укрыться здесь на некоторое время, пока не кончится несчастное дело о похищении трупов, и тогда… Впрочем, еще рано думать о том, что будет тогда; надо позаботиться о том, что делать теперь. Через какой-нибудь час ильфордские полицейские начнут обо мне беспокоиться, меня станут разыскивать, и потому мне прежде всего нужно куда-нибудь спрятаться.
Я прошел с дюжину узких и грязных переулков и, наконец, приютился в одной тихой съестной, где истратил на пищу четыре пенса из своего шиллинга. Хозяин лавки пускал у себя ночевать и давал постели за четыре пенса; поэтому я с его позволения остался в лавке до вечера, съел за ужином порцию супа за один пенс и затем улегся спать в довольно удобной постели.
Я был настолько утомлен, что мог бы заснуть немедленно, если бы меня не тревожили самые беспокойные мысли. Мое положение представлялось мне просто безвыходным и таким ужасным, каким оно не было никогда прежде. Со всех сторон грозили мне беды. Всего досаднее было то, что я сам создал себе все эти затруднения своими побегами. Прежде всего, я убежал из телеги и счел себя счастливым; потом я убежал от мистера Перкса, собиравшегося убить меня, и это было, конечно, большой удачей; наконец, я убежал от ильфордской полиции самым счастливым образом.
И к чему же привели меня все эти удачи? Они сделали меня окончательно несчастным. Отец опять нападет на мой след; миссис Уинкшип, мой единственный друг в целом мире, должна рассердиться на меня за то, что я донес на ее зятя полиции; мистер Бельчер на свободе и постарается поймать меня, чтобы отомстить, как и обещал; полицейские, на защиту которых я мог бы рассчитывать, вероятно, уже получили приказание разыскать и схватить меня. Что же мне делать среди всех этих несчастий? И что я могу сделать? Ничего, решительно ничего! Я должен прятаться, выжидать, и ничего больше.
С этой мыслью я заснул, с нею же и проснулся на следующее утро, сошел вниз в лавочку, истратил на завтрак оставшиеся у меня три пенса и вышел на улицу. С этой же мыслью я целый день бродил, выбирая самые бедные и темные закоулки и со страхом избегая встречи с полицией. Под вечер голод напомнил мне, что я не обедал и что мне, вероятно, не придется ужинать.
«Нечего ждать и прятаться, – говорил мне голод, – ты должен что-нибудь делать!»
Но что же мне делать? Куда я ни пойду, я только еще больше испорчу свое положение. Испорчу? Да разве можно мне его еще испортить? Оно так худо, что едва ли может сделаться еще хуже! Бояться каждую минуту, что схватит первый попавшийся навстречу полицейский, да еще терпеть голод! Нет, это нестерпимо! Если бы я был поближе к какому-нибудь базару, я не стал бы церемониться. Чего уж там, в самом деле! Все против меня, бедного, беззащитного мальчика! Мне ли еще рассуждать, что честно, а что нечестно! Буду думать только, как бы мне самому прожить, а до остального мне и дела нет. Я дошел до такого состояния, что, не задумавшись, готов был таскать из чужих карманов, если бы только умел взяться за это дело. Но оно всегда казалось мне необыкновенно страшным.