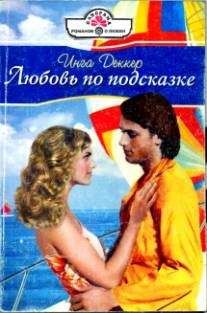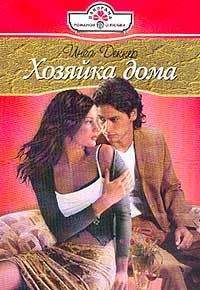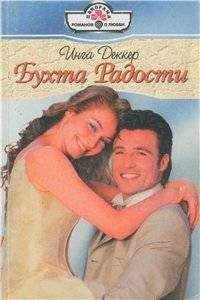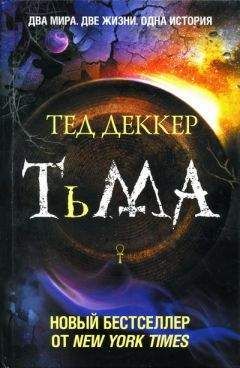Эмма Выгодская - Пламя гнева
Эдвард отослал своё письмо.
Прошло больше месяца; ответа от генерал-губернатора не было.
«На Яве уже льётся кровь, — думал Эдвард. — Неужели правители островной Индии не понимают, что надо коренным образом изменить положение крестьян в колониях?..»
Ему принесли гаагские газеты.
«Чтобы сломить сопротивление повстанцев Западной Явы, голландским войскам пришлось окружить и сжечь восемь селений в районе Тангкас-Бетунга», — сообщалось в газетах.
«Тревожные сведения доходят из Пурвакарты.
Население округа возмутилось и открыто выступило против голландских властей. Начались бои в районе Паракан-Салака…»
— Бои, Эвердина! — взволнованно твердил Эдвард. Если я честный человек, я должен поехать к ним, обратно на Яву. Я должен биться на их стороне.
— У тебя нет денег даже на то, чтобы расплатиться с нашим хозяином, — с горечью отвечала Эвердина. — Как же ты сможешь доехать до Явы?
Они задолжали хозяину постоялого двора за шесть недель.
У Эвердины был выигрышный билет, оставленный когда-то матерью ей в наследство, пополам с сестрой. На долю Эвердины приходилось двести пятьдесят гульденов.
Билет хранился у Генриетты. Эвердина написала сестре, — та давно уже жила в Гааге, в покойном, богато убранном доме, с мужем, успевающим купцом, Паулем Ван-Хеккереном.
Двести пятьдесят гульденов!.. Это могло выручить всю семью. Эвердина просила Генриетту выслать ей всю причитавшуюся на её долю половину, с тем, чтобы через три года, когда билет выйдет в тираж, все пятьсот гульденов из банка целиком получила Генриетта.
Если бы Эдвард был человеком тупым или бездарным, если бы он не сумел удержаться на колониальной службе из-за отсутствия способностей, если бы он просто заболел или сломал ногу, Ван-Хеккерены простили бы это Эвердине. Но её муж за три года до пенсии отказался от службы из-за «убеждений», он заставил семью голодать, заступаясь за чужих крестьян!
«Ваш муж — неуравновешенный человек, дорогая Эвердина, — ответил за жену Пауль Ван-Хеккерен. — Мы не можем рисковать нашими деньгами».
Хозяин требовал денег. Эдвард целые дни просиживал под деревом во дворе, за конюшнями, чтобы не попадаться на глаза хозяину. Он ждал ответа от Даймер-ван-Твиста.
«Он не посмеет не ответить!» — думал Эдвард.
Прошло больше двух месяцев. Ответа не было.
Ван-Твист счёл недостойным для себя ответить на сумасбродный вызов бывшего ассистент-резидента.
Эдвард вновь разложил свои документы. Он напишет о том, что делается в колониях. Это будет письмо, адресованное всему миру. Он напишет книгу.
Глава тридцать первая
Эвердина
Не приветливый город Антверпен, — ни одного друга или знакомого, сердитый хозяин гостиницы, проливной дождь.
Девятый день вся семья Деккеров сидела в номере, на увязанных чемоданах, и не могла двинуться дальше.
В деревне один старый знакомый Эдварда по колониям случайно заехал переночевать на тот же постоялый двор, где третий месяц томился без денег Эдвард с семьёй. Эдвард взял у приятеля сто гульденов в долг — он не решился взять больше. Этого хватило как раз на то, чтобы заплатить долг хозяину постоялого двора и переехать в Антверпен. Здесь они снова сидели без денег. Потеряв терпение, хозяин гостиницы запретил слугам подавать Деккерам в номер еду. Он не разрешил им выносить свои вещи за пределы гостиницы. Эдвард не мог продать своего чемодана, чтобы купить детям хлеба и кипятку.
Эвердина уже готова была поехать с детьми в Гаагу к Генриетте, а Эдварда оставить в номере с вещами, как залог того, что деньги будут уплачены. Но у них уже не было денег на билеты до Гааги.
Несколько последних дней Эвердина лежала неподвижно в постели; что-то словно окаменело у ней в лице.
Настало ещё одно утро; Эвердина поднялась, наконец, и начала решительно одевать детей.
— Я еду в Гаагу, — сказала Эвердина.
— А билеты? — спросил Эдвард.
Эвердина ничего не ответила. Она достала из чемодана своё последнее шерстяное платье, принарядила детей. Она лихорадочно суетилась.
— У тебя нет денег на билет, дорогая, — осторожно сказал Эдвард.
Эвердина снова промолчала. Она продолжала суетиться с той же напряжённой торопливостью в движениях. Эдвард смотрел на неё с грустью. В первый раз за все годы Эвердина предпринимала что-то одна, на свой страх, не поделившись с ним.
Пароход уходил в два часа дня. Семья разлучалась. Эвердина с маленьким Эдвардом и маленькой Эвердиной уезжали. Эдвард большой оставался в номере, залогом для хозяина.
День был свежий и бессолнечный. Эвердина села с детьми на палубе. Она взяла у няньки девочку. Не отрываясь, она глядела на сумрачную воду.
— Ваши билеты? — подошёл к ней контролёр.
Не поворачивая лица, Эвердина достала свою дорожную сумку. Она раскрыла сумку, и лицо её выразило удивление. Она порылась в ней и испуганно вскочила.
— Я потеряла билеты! — сказал Эвердина.
— Придётся, мефрау, купить другие, — вежливо сказал контролёр.
Маленькая Эвердина испуганно заплакала.
— У меня пропало всё, — сказала Эвердина, — билеты, деньги, всё. У меня выпал кошелёк из сумки!
На них смотрели. Бледная дама с двумя детьми, необыкновенная коричневая нянька в широкой узорчатой юбке… Ни билетов, ни денег…
Контролёр колебался. Дама была прилично одета.
— Я пойду к капитану, — сказал контролёр.
Пассажиры смотрели с любопытством: высадят на берег эту даму с двумя детьми или не высадят?
— Если мефрау обещает заплатить за билеты в Роттердаме, можно оставить, — распорядился капитан.
— Я заплачу, — сказала Эвердина.
Она не спустилась вниз, в каюту. Она осталась с детьми на палубе, под холодным ветром.
В Роттердаме у Эвердины не было никого: ни родных, ни знакомых. Случайно она помнила название одного трактира — «Серебряная сельдь». Эдвард как-то останавливался в «Серебряной сельди» и очень хвалил хозяина.
Берега Голландии поворачивались перед нею, каналы в низких оградах, тучные зелёные луга, кирпичные мельницы с тёмными, медленно машущими крыльями…
— Мама, отчего здесь пальмы такие некрасивые, неровные, мохнатые? — спрашивал маленький Эдвард.
— Это не пальмы, Эду, это сосны, — отвечала Эвердина.
Они и к вечеру не спустились вниз, в каюту. Все остались до утра на палубе. Эвердина укутала детей.
«Что с ними будет в Роттердаме? И как они из Роттердама доберутся до Гааги?..»
Ветер дул с моря непрерывной настойчивой струёй, продувал насквозь мантилью и платье, студил открытую голову.
У Генриетты в Гааге, должно быть, покойный, богато убранный дом, с гостиной, с дубовой столовой, с высоким голландским изразцовым камином, с половиками у входа. И паркетные шашечные полы натёрты так, как умеют натирать только в Голландии; и горничная у парадной двери просит приходящих вытирать ноги, потому что в доме чисто, как только может быть чисто в голландском доме…
И у них с Эдвардом был на Яве свой спокойный дом, они мирно жили и помогали всякому, кто приходил к ним за помощью, и делали людям много добра. Эдвард был безумен. Разве яванцам легче стало от того, что они так скитаются сейчас?..
— Мама, отчего здесь так холодно? — плакал маленький Эду.
— Здесь север, детка.
— Мама, накрой меня ещё чем-нибудь. Мне холодно, мама!
Эвердина сняла свою лёгкую шёлковую мантилью и прикрыла ею мальчика.
Эдвард безумен! Он не подумал о собственных детях. Чужое несчастье было ему ближе своего.
Сердце Эвердины ожесточалось против Эдварда.
* * *Хозяин «Серебряной сельди» очень удивился, когда увидел незнакомую бледную даму без шляпы с двумя детьми и няньку цвета медового пряника.
Сзади шёл служащий парохода в форменной куртке с галунами. Капитан велел сопровождать даму, чтобы та не ушла, не заплатив.
— Мой муж, Эдвард Деккер, несколько раз останавливался у вас, — заторопившись, сказала Эвердина. — У меня пропали все деньги в дороге, — не можете ли вы дать мне пятнадцать гульденов на билеты?
— Труде, — повернулся трактирщик к жене, — что ты скажешь? У нас сегодня хорошая выручка, — я думаю, мы можем дать мефрау Деккер на билеты.
— Я очень хорошо помню менгера Деккера, — спокойным певучим голосом ответила Труде. — Он был такой любезный всегда и такой весёлый…
Она вынула из кассы пятнадцать гульденов.
— Знаешь, Труде, — сказал трактирщик, — бедная мефрау, видно, очень устала. Дадим уж ей все восемь гульденов на проезд железной дорогой до Гааги.
И трактирщик умолк, потрясённый собственной добротой.
* * *Через несколько часов они были в Гааге.
У Генриетты был покойный, богато убранный дом, с дубовой столовой, с натёртым до блеска полом, с высоким камином, выложенным изразцами. «Счастливый приют», — написано, было на медной начищенной дощечке у входа. Горничная у парадной двери попросила их обтереть ноги. Пауль Ван-Хеккерен раскланялся с ними на лестнице, вежливо и сумрачно, ничего не сказав. «Ваш муж — неуравновешенный человек, дорогая Эвердина», — вспомнила Эвердина фразу из его последнего письма. Наверху их встретила удивлённая Генриетта.