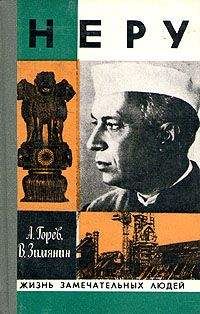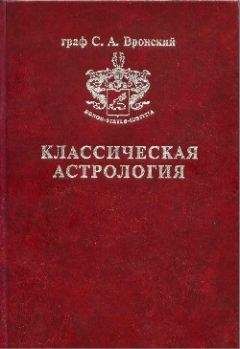Юрий Коринец - В белую ночь у костра
— Странно… пахнет поездом! — сказал я.
— Ничего странного, - сказал Порфирий, не оборачиваясь. — Поезд и есть. И плыть недолго, скоро будем на месте…
Порфирий и дядя стояли спиной ко мне, на корме возле рюкзаков: они там приготавливали нечто важное — этвас, — но я-то знал, что они приготавливали!
— А когда мы будем на месте? — спросил я.
— Завтра, — сказал Порфирий. — Если скорополучно пойдём, то на лазори там будем…
— Как — на лазори?
— На рассвете, — сказал дядя, тоже не оборачиваясь. — Всю ночь будем плыть.
Я опять втянул воздух ноздрями: запах поезда улетучился. Я подумал о маме: в Кандалакше нас должны были ждать её письма. Я оглянулся вокруг уже с чувством некоего расставания…
— Ну, садись, — сказал дядя, повернувшись ко мне.
И Порфирий повернулся ко мне. В руках у дяди был лавровый венок.
— Чанг! — позвал дядя.
Чанг подошёл и встал рядом с дядей. Все. они выстроились передо мной: в середине дядя с венком в протянутых руках, слева от дяди Чанг, а справа Порфирий с поднятым в правой руке дядиным наганом. Я сидел перед ними на плоту, скрестив по-восточному ноги.
— В честь победителя — салют! — громко и торжественно сказал дядя.
Порфирий стал палить в воздух.
Эхо многократно загрохотало над рекой, отскакивая от берегов, пока дядя возлагал мне на голову венок.
Эхо всё грохотало, и Порфирий всё палил, а дядя опять отступил назад, и тогда я встал и поклонился всем до земли — до брёвен то есть… Чанг встал на задние лапы и обнял меня…
Плот между тем, пройдя по краю плёса, выходил на середину реки. Течение убыстрилось. Дядя с Порфирием опять стали на вёсла. Я стоял с лавровым венком на голове рядом с дядей, облокотясь на подгребицу. Берега опять побежали назад всё быстрее и быстрее.
— Стихи ты написал прекрасно! — сказал дядя, помолчав. — Но почему ты написал «Я нить сушу на печке»? Ты же сушил её не на печке, а на плоту, на солнце!
— Для рифмы, — сказал я. — «На печке» рифмуется с «человечки». А разве это важно?
— Вообще-то важно, — сказал дядя. — Если ты хотел сказать «на солнце», ты и должен был так сказать, должен был найти соответствующую рифму. Рифма не должна быть помехой, она не должна уводить в сторону. Наоборот! Настоящему поэту рифмы всегда помогают… Но в данном случае это, пожалуй, неважно, потому что мысль всё равно выражена точно — главная мысль стихотворения… понимаешь? Ведь ты мог сушиться и на печке!
— В том-то и дело! Почему я так и написал! — сказал я небрежно.
— Ну, тогда ещё раз молодец, — сказал дядя. — Два — ноль в твою пользу.
— А я ещё кое-что знаю, — сказал я, хитро прищурившись.
Дядя посмотрел на меня вопросительно. И Порфирий тоже.
— Я знаю, что Потапыч — это ты сам!
Я думал, что дядя растеряется. Но он почему-то не растерялся. Он просто рассмеялся.
— Три — ноль, — сказал дядя и развёл руками. — Что я могу ещё сказать? Шерлок Холмс ты, раскрыватель псевдонимов!
Я был доволен.
— Одно мне только не совсем ясно, — продолжал я, — где ты точен, а где немного… ну, фантазируешь, что ли…
— Да это я и сам не знаю, — сказал дядя. — Когда начинаешь рассказывать, знаешь всё точно, ну, а потом, в процессе рассказа, уже сам забываешь, где фантазируешь. Главное — быть правдивым в сущности, в высшем смысле…
— Это как стихи писать?
— Совершенно верно, — кивнул дядя.
Медведь в карауле
Плот всё бежал и бежал, река хлюпала под брёвнами и ревела возле камней, которые мы обходили, солнце опускалось всё ниже и ниже, а мы всё катились и катились к морю.
Дело близилось к ночи, мы оделись, потому что стало прохладно.
— Ты бы лёг да вздремнул, — сказал дядя. — Я постелю тебе палатку.
— Не спится, — сказал я. — Разные мысли лезут в голову…
— О чём? — спросил дядя.
— Да самые разные! О том, что мы скоро уедем. И о Потапыче. Рассказал бы чего-нибудь. Какую-нибудь новеллу…
— У меня тоже чемоданное настроение, — сказал дядя. — А когда у меня чемоданное настроение, я не могу сосредоточиться.
— Может, вы расскажете? — обратился я к Порфирию.
— Куда уж мне рассказывать после Ивановича! — просипел Порфирий. — После Ивановича лучше помалкивать!
— Ну, не говори, — улыбнулся дядя. — Ты прекрасно рассказываешь. Как ты нам рассказал о Михайле! Правда, Миша?
— Правда, — сказал я.
— О своём дак рассказываю, — отозвался Порфирий. — Каждый о своём умеет рассказывать…
— А что было дальше с твоим Потапычем… то есть с тобой? — спросил я дядю.
— Бежал за границу.
— И что ты там делал?
— Учился, — сказал дядя. — И работал с немецкими товарищами. С немецкими коммунистами. А в тысяча девятьсот четырнадцатом году началась мировая война, и я стал гражданским военнопленным.
— Как — гражданским военнопленным?
— Я учился в Берлинском университете, — сказал дядя, — будучи русским подданным. Когда началась война, всех штатских русских объявили гражданскими военнопленными. Они не имели права никуда выезжать без ведома немецких властей и должны были каждую неделю отмечаться в полиции… Меня там встречали словами «руссишес швайн»»: «А! Руссишес швайн! Гутен таг!»
— Это значит «русская свинья»?
— Совершенно верно!
— А почему они так говорили?
— А потому что это были такие же сволочи, как и наши русские жандармы!
— И долго так продолжалось?
— До семнадцатого года: в семнадцатом году наконец победила Октябрьская революция! И я вернулся домой, в Россию. Но это уже была другая Россия — Советская! И повесть эта уже другая. И другие новеллы. Когда-нибудь я тебе всё расскажу…
— У тебя ещё много было приключений?
— Хватало! — сказал дядя.
Он достал свою трубку, набил её табаком и раскурил, зажав под мышкой ручку весла.
— Знаешь, что запомнилось мне на всю жизнь, когда я приехал в Петроград семнадцатого года? Моё первое впечатление?
— Что? — спросил я.
— Белый снег и красные флаги! Горы белого снега на улицах, которые никто не убирал! И красные флаги! Повсюду! Это было тогда удивительно!.. Помнишь синие тетрадки? — спросил он, помолчав.
— Которые лежат у тебя в шкафу, перевязанные бечёвкой?
— Когда мы вернёмся, я тебе их дам почитать. Это мои дневники. Там ты прочтёшь обо всём.
— О Потапыче?
— И о Потапыче, и о Порфирии, и обо мне! Обо всём нашем тесном мире!
Дядя опять замолчал, попыхивая трубкой и глядя вперёд.
Плот бежал по самой середине реки, течение было ровное, и подводных камней почти не было; чувствовалось приближение устья; река стала широкой и мощной, она величественно заворачивала посреди густого леса, и мы быстро неслись по широкой серебристой речной дуге, тоже заворачивая налево, за тёмный лесной мыс, поросший елями; мы почти не управляли плотом, мы просто стояли, опёршись о подгребицы, на которых неподвижно лежали длинные вёсла, уходившие в воду с кормы и с носа; я стоял у носового весла, а дядя — у кормового; Порфирий и Чанг стояли рядом со мной; я смотрел вперёд, следя за рекой, и вдруг я увидел на фоне реки, на берегу перед мысом, Михайлу! Он стоял возле самой воды!
Коренастый чёрный медведь стоял во весь рост на задних лапах, а правую переднюю лапу он приложил к уху и смотрел на нас! Он отдавал нам честь!
— Михаила! — закричал я. — Смотрите — вон Михайла!
Порфирий и дядя посмотрели налево и замерли. И Михайла замер: он стоял не шевелясь, как часовой в карауле, приложив правую лапу к голове.
— Глянь-ка дак! — удивлённо сказал Порфирий. — Ведмедь тебе честь отдаёт, Иванович!
— Ур-р-ра! — закричал я. — Ур-р-ра! Привет Михайле Потапычу!
Я замахал рукой, посылая медведю привет.
Дядя и Порфирий тоже замахали руками, Порфирий даже вынул носовой платочек и махал платочком. И Чанг заметил Михайлу — он зарычал, шерсть на его загривке встала дыбом. Чанг всё время рычал, и глаза у него стали бешеными, он провожал медведя глазами, и мы тоже провожали медведя глазами — плот уже проходил мимо Михайлы, — и вдруг мы увидели, как медведь тоже взмахнул лапой, отняв её от головы, и в этот момент он скрылся за мысом…
— Это он с нами прощался, — сказал дядя. — Дальше он за нами не побежит…
— Он прощался с тобой, — задумчиво просипел Порфирий. — И чего он с тобой прощался? Странно…
? — Может, он просто чесал в затылке? — сказал дядя.
— Непонятно, — сказал Порфирий.
Я ничего не сказал, но мне это тоже было непонятно. «Какие-то чудеса!» — подумал я. Я ещё и сейчас думаю, что это были какие-то чудеса. Но даже сейчас, через тридцать с лишним лет, я всё помню как тогда, помню совершенно точно, как будто это только что пронеслось мимо, это чудесное видение — медведь, отдающий дяде честь, — и ничего не могу понять…