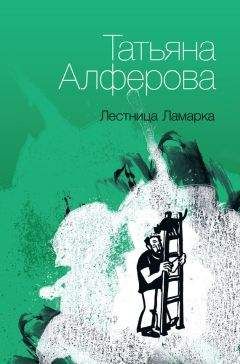Василий Смирнов - Открытие мира
Вот это был лещ так лещ! Шурке сроду не доводилось такого видывать. Круглый, что сковорода, толстущий, он весил, наверное, больше пяти фунтов. Каждая чешуйка на нем была с копейку. Хребтина с лысиной - шириной пальца в три. Вылупив глаза, лещ зевал беззубым ртищем и ворочался, шевеля хвостом и темными перьями.
- Старичок, - сказал отец, вытирая обвислые, мокрые усы. - Повезло нам с тобой, Шурок!.. Будет к празднику и уха и жаркое.
На траве образовалась лужа. Отец сидел в ней, будто водяной. Он стащил сапоги и выливал воду из голенищ, как из ведер.
- У меня не уйдешь! - продолжал он, усмехаясь и выжимая пиджак и брюки. - Я лещовые повадки знаю... Главное - не давать ему на брюхо поворачиваться. Сшибай плашмя - и вся недолга.
Просовывая гибкий прутик лещу через жабры и толстую губу, Шурка жадно расспрашивал:
- Он хитрый, лещ? Да?
- Чуткий. Все слышит и понимает.
- А кто хитрее - лещ или щука?
- Ну, щука - другой статьи. Щука о себе заботится. А лещ... Он, брат, и товарища из беды выручит.
- А как?
- А вот слушай... Невод рыбаки закинут - лещ сразу на бок и на дно, что твой рублище. Как только невод нижним краем его заденет, он и встанет хребтом. Ну, рыба в щель и выскочит... Вот он каков, лещ-то... Обсушимся и домой.
Приятно было это неторопливое возвращение по горячим камням, сырым песчаным отмелям, по густой и высокой траве волжского луга. Хорошо пахло дикой кашкой. Невидимые кузнечики без умолку стригли в зарослях гороховины. На тонких, липких стеблях аграфены-купальницы качались, словно на качелях, мохнатые шмели. В кустах кричала трясогузка.
Глазея и слушая, Шурка нес ведро с рыбой. Он нарвал широких глянцевых листьев конского щавеля и покрыл ими добычу, как полагалось по рыбацкому закону, чтобы никто не видел улова.
На горе, на самом солнцепеке, побросав удочки и ведра, отдыхали дядя Ося, Саша Пупа и Ваня Дух. Отец, поздоровавшись, сел с ними покурить.
- Как рыбка? - спросил он, угощая папиросами.
- Плохо, - сказал дядя Ося. - Не хочет ловиться на простой крючок, подавай ей серебряный.
- Д-да... От нефти рыба дохнет.
- И не говори. Скоро совсем переведется.
Не виделись мужики с отцом год, а разговаривали так, будто вчера расстались. Шурке даже стало немножко обидно за отца. Он сидел такой же рваный и грязный, как Саша Пупа.
Чтобы утешиться, Шурка, не стерпев, похвастался и лещом, и щукой, и окунями. Он заглянул и в чужие ведра. У всех было пропасть рыбы. Мужики жаловались по привычке: когда хаешь улов - рыбка лучше клюет. Вот Шурка нарушил эту примету и в следующий раз придет домой с пустом. Ему стало грустно.
Но тут Саша Пупа, бережно потушив окурок папиросы и спрятав его за ухо, спросил отца:
- Как там... в Питере?
- Слава богу, - важно сказал отец.
Он вынул серебряные часы и громко щелкнул крышкой. Мужики покосились на часы, и Шурка повеселел.
- Ах, Питер, Питер! - вздохнул Саша, жмурясь и улыбаясь. - Хоть бы одним глазком поглядеть на него еще разик...
Дядя Ося рассмеялся:
- А тебе, мытарь, не все равно, где пить - что в деревне, что в городе?
- Чудило! - воскликнул Саша Пупа, живо поднимаясь на коленки и взмахивая руками. - Да разве б я при деньгах стал пить? Боже мой!.. Да ты дай мне "катеньку"* - я человеком стану.
- Не одна "катенька" у тебя водилась, а толк какой?
Саша лег животом на траву, промолчал.
- Меня не обманешь. Д-да... Я, мытарь, все испробовал, - внушительно сказал дядя Ося, разглядывая свои перепачканные илом лапти. - И в приказчиках служил, и навоз ковырял, и по монастырям шлялся... Везде несладко. В городе - суета, в деревне - маета... Правду искал. С самим графом Толстым разговаривал... Ха! Тьфу! - злобно плюнул он. - Живи не скули - вот тебе и вся правда. - Он набил трубочку, крепко закусил ее и, не зажигая, принялся насасывать. - И чего люди бесятся? - пожал он плечами. - Не понимаю... По земле ходишь? Небо видишь? Ну и радуйся... Человек-то на свет однажды родится.
- Да ведь жрать чего-нибудь надо? - тоскливо протянул Саша Пупа, не поднимая головы.
- Ахти беда - в брюхе вода! - усмехнулся дядя Ося. - Ты что, белого пирога пожрешь, так два века проживешь? Да белый-то пирог тебя по рукам, по ногам свяжет - не вздохнешь... Нет, я сам себе царь. Гол - да не вол. Я, мытарь, что хочу - то и ворочу... Так-то!
Ваня Дух заговорил, как всегда, о земле. Не надо ему ни Питера, ни денег. Землицы бы досыта. Он выковырял подле себя комок глины, точно о ней и шла речь, мял комок пальцами, нюхал, и казалось, вот-вот сунет глину в рот и примется жевать. Шурка ждал, что отец расскажет, как Устин Павлыч обпахал их приречную полосу и как попадет ему за это сегодня. Но отец почему-то не сказал. Он молча дымил в усы папиросой, кивал картузом, слушая торопливую бормотню Вани.
- Закосим луг скоро? - спросил он у Духа.
- Скоро... да не мы.
- Как так? - Отец растерял всю свою важность. Опять он показался Шурке рваным, грязным и жалким. - Это почему же?
- Глебовские откупили. По лишнему целковому содрал управляло.
- За наш луг?! Каждый год косим... Не давать!
- И не дадим.
- Эхма-а!.. - зевнул дядя Ося, поднимаясь. - Скосят - и вас не спросят.
- Ну, это мы еще посмотрим! - злобно оскалил зубы Ваня Дух.
Глава XX
ШУРКА ЗАВИДУЕТ ГУСЯМ
Праздничный чай пили наскоро: Шурка устроился поближе к сковороде, на которой лежали пшеничные масленые пряженцы*. Он уписывал пряженцы за обе щеки, пока его не оговорили:
- Живот заболит. Хватит.
Вся в муке, растрепанная, мать выскакивает из-за стола, от недопитой чашки, и с куском во рту летит к печи.
- Ай, батюшки, пироги забыла! Пригорели... чтоб их разорвало!
Она почти не спала ночь, готовя для гостей необыкновенные яства. Все, что скоплено было матерью за зиму и весну, припрятано в подполье, появилось на свет. И густо пахнет в избе, словно в Быковой лавке, мясным варевом, пивом, сдобным тестом. Ванятка кормит на полу обмусоленным кренделем кота. Рыжий хитряга только нюхает и мурлычет - сегодня и он сыт.
- Встанет нам эта тифинская в копеечку, - ворчит отец, поспешно хлебая с блюдца чай и раздраженно следя за быстрыми, ловкими движениями матери. - Навыдумывали - гоститься. Сколько одного винища уйдет! Опять же мясо, мука цену имеют.
- Сестрица Аннушка седни раз пять заглядывала, думала - поднесешь спозаранку, - говорит мать, гремя кочергой.
- Как же, разевай рот шире! Она ведро вылакает на даровщинку. Гостьюшка!.. Кабы не память братца Ивана, показал бы я, где порог, где дверь.
Отец сердито опрокидывает стакан, ладонью вытирает усы.
- Копаешься, матка! К шапочному разбору в церковь придем. Давно благовестили... Скоро ли ты там?
- Я сейчас. Одевайтесь.
Началась торжественная церемония одевания в "тифинскую" - престольный праздник тихвинской божьей матери. Отец пошел в чулан и принес праздничную, бережно хранимую с женитьбы одежду. Острый, едучий нафталин сразу перебил в избе вкусные запахи.
Чихая, Шурка с любопытством следит, как надевает отец "крахмале" с блестящими запонками из "самоварного золота", стягивает шею тугим порыжелым воротничком, нацепляет галстук бабочкой. Затем следуют: бархатный жилет и широкий, двубортный, с залежалыми складками пиджак. Осторожно натянув лакированные сапоги и пройдясь со скрипом и стуком по избе, отец останавливается перед зеркалом и причесывается. На голову он ставит вместо картуза черную шляпу-котелок, в руки берет трость с костяной собачьей головкой.
Мать чистит отца со всех сторон щеткой, присев на корточки, дышит на лакированные голенища и трет их подолом юбки. Потом, быстро умывшись и по пути еще немного погремев на кухне заслоном, наряжается в голубое подвенечное платье, втискивает ноги в свадебные желтые полусапожки и повязывает голову черной, плетеного шелка, косынкой.
- Ну вот и я готовая! - говорит она, конфузливо поворачиваясь перед отцом.
Они осматривают друг дружку, ревниво примечая на одежде пятна и дыры. Мать штопает, затирает на скорую руку, а отец ворчит, что прежде сукно износу не знало, дедушкину тройку внук донашивал, а теперь, смотри-ка, хоть каждый год костюм покупай - капиталов не напасешься.
Шуркин наряд составляют поношенная, но чудесная, привезенная отцом из Питера, белая рубашка с напуском и синим матросским воротником, короткие штаны из неизменной "чертовой кожи" и новые башмаки на босу ногу. Все это, вопреки протестам матери надетое еще до чая, изрядно жмет и, главное, уже носит следы поспешного уничтожения пшеничных масленых пряженцев. Как ни таится Шурка, как ни вертится по избе волчком, зоркий материн глаз обнаруживает предательские рыжие звезды на матроске. Веский, отнюдь не праздничный подзатыльник получает он от разгневанной руки родительницы. Ладно, сегодня тихвинская, реветь не полагается.
Шурка хочет взять с собой пугач, но мать не позволяет.
- Очумел? Да разве можно в церковь с баловством?
- Скорей поворачивайтесь, - торопит отец, начиная опять сердиться. Ох, уж вы мне!..