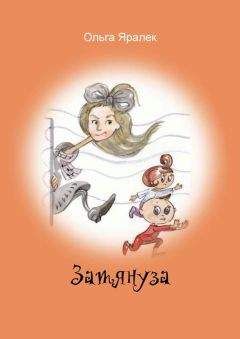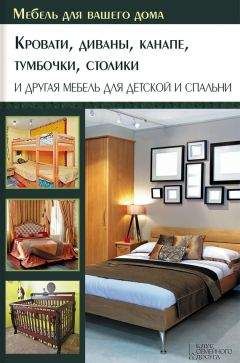Анатолий Петухов - Сить - таинственная река
— Не знаю... Сначала хотела написать, а потом передумала. Разве в письме все скажешь?
Они вышли за деревню и побрели по тропке, по которой бегали на Сить купаться.
— Ты же собиралась идти в девятый?
— Собиралась. Думала, кончу десять и в медицинский пойду. А потом что-то засомневалась — вдруг не
поступить, что тогда? Вот и решила в училище. Ведь после училища тоже можно в институт поступить. Еще легче.
— А я думал, ты обиделась на меня и из-за того...
— Конечно, обиделась! Мне Кайзера не меньше твоего жалко было.
— Я знаю...
В тусклом свете ущербной луны серебрилась Сить. На перекате, ниже омута, она плескалась и шумела, а
дальше опять текла тихо, умиротворенная и спокойная.
— Мы больше никогда не будем ссориться, правда? — чуть слышно сказала Танька. — Никогда! —
повторила она убежденно. — Я очень часто вспоминала тебя, вспоминала, как прибежала тогда к тебе на Сить и
даже не догадалась ничего принести. И Семениху вспоминала.
В городе хорошо, но тем везде камень, асфальт. В парк мы ходили с девочками, так и кусты-то там
подстриженные, какие-то ненастоящие. Посмотришь — вроде бы красиво, а вспомнишь Сить, наши леса — и
грустно становится. Я ехала сюда, как на праздник, представляешь — в Сити выкупалась. Одна! Купаюсь и боюсь:
вдруг кто-нибудь придет и унесет одежду. Глупо, правда? — Танька рассмеялась.
Гусь слушал ее, затаив дыхание. Он снова и снова убеждался в том, что Танька не такая, как другие девчонки,
и говорит она как-то складно — красиво говорит, и голос у нее такой мягкий и нежный — только ее и слушал бы!
О городе Танька рассказывала много, увлеченно, но Гусь догадывался, что в этом красивом и большом городе
Танька тосковала по родной деревне, что к городу она еще не привыкла. И привыкнет ли?
— А я тебе еще не сказала самого главного, —неожиданно прошептала она.
— Чего?
— Не знаешь?
Ее лицо было совсем близко, но Гусь видел только глаза, большие, изумленно -радостные.
— Не знаю, — пролепетал он еле слышно.
— Я тоже... люблю!.. Мы будем встречаться часто-часто, каждый день, когда ты приедешь в город.
— Я приеду! — с жаром ответил Гусь и тут же испугался своих слов, будто сказал самому дорогому человеку
неправду.
Танька подала ему руку.
— Вернемся... Что-то холодно.
От Сити и в самом деле тянуло прохладой.
— Вернемся, — тихо ответил Гусь.
Почти все огни в Семенихе были потушены, лишь в клубе да у Шумилиных светились окна.
— Наши не спят. Меня ждут, — сказала Танька.
— А ты не боишься, что тебя будут ругать?
— За что? Разве я сделала что-нибудь плохое?
— Да вот, что ты — со мной…
— Какие глупости!.. Между прочим, если хочешь знать, папа всегда тебя уважал и не раз говорил маме, что
когда ты перемелешься, из тебя выйдет толк.
— Это как же — перемелюсь?
Танька пожала плечами.
— Он и Сережку никогда не ругал, что с тобой водится... А вообще-то я и не боюсь нисколечко! Вон,
девчонки, которые вместе со мной поступали, сразу с городскими парнями перезнакомились, на танцы стали
бегать...
— И ты ходила на танцы?
— Нет, — не сразу ответила Танька. — Но если бы не получила от тебя письма — пошла бы.
— Нет, ты лучше не ходи. Там ты одна. Обидят — и заступиться некому...
Они прошли вдоль деревни и остановились у дома Шумилиных.
— Что же, до завтра? — спросила Танька и подала Гусю руку.
— До завтра... Ты не обиделась на меня?
— За что?
— Не знаю... Так...
— Ну что ты!..— она вырвала свою руку и вбежала на крыльцо. — До завтра!..
Утром из центральной конторы колхоза пришло распоряжение перебросить комбайн Прокатова в четвертую
бригаду на уборку ржи. Пахомов пришел сообщить об этом, когда Иван и Гусь только что завели комбайн. Вид у
бригадира был хмурый и озабоченный.
— Раз надо — поедем в четвертую, — сказал Прокатов. — Раньше бы сказали, так мы бы туда по росе
укатили...
Прокатов говорил так, будто у него не было ни малейших сомнений, поедет ли туда Гусь. А Васька между тем
лихорадочно думал, как объяснить, что в четвертую бригаду ехать он не может.
— А ты что молчишь? — спросил Пахомов у Гуся.
— Я не знаю... На сколько дней туда ехать-то?
— А для нас не все ли равно? — удивился Прокатов. — Будем до победы, пока рожь не уберем. Может,
Согрин свой комбайн настроит, тогда быстро управимся.
"Нет, ехать нельзя, — соображал Гусь. — Оттуда за четырнадцать километров не прибежишь, а Танька и
всего-то неделю дома будет..."
Прокатов, видимо, почувствовал внутреннее колебание Гуся и с легким укором сказал:
— Ты что, Гусенок? Не хочешь ли меня одного бросить? Вместе работали, вместе фотографировались, а как
в другую бригаду, где потруднее, — ты в кусты?
— Вообще-то парню отдохнуть надо перед школой, — сказал Пахомов. — Может, там помощника найдут
или в крайнем случае один поработаешь?
— Я-то не пропаду!..— махнул рукой Прокатов. — В общем, Василий, смотри сам. Уговаривать тебя не
собираюсь. За то, что сделал и в чем помог, я тебе тыщу раз спасибо должен сказать.
Прокатов впервые назвал Гуся полным именем. Сказал то, что думает. В его голосе Гусь уловил не то чтобы
обиду, а скорее досаду. Но самое главное — это Гусь отлично понимал — Прокатов без него действительно не
пропадет.
Гусь помрачнел, насупился и, пересиливая себя, мысленно прощаясь с Танькой, не на день и не на два, быть
может, недолго, сказал:
— А чего меня уговаривать? Поеду.
В четвертой бригаде Прокатов предложил новый режим работы.
— Время не бежит — летит! И чесаться некогда, — сказал он. — Начинаем работу вместе, по росе — зерно
пересохшее, не страшное, а потом по очереди отдыхать будем. И обедать тоже поодиночке, чтобы комбайн не
останавливать. Усвоил?
— А если я комбайн запорю? — спросил Гусь, в душе и желая, и страшась поработать самостоятельно.
— Запорешь — тебя выпорю! — отшутился Прокатов и серьезно добавил: — Ты уж поаккуратнее, не спеши.
Чтобы солому скинуть — останавливайся.
Первый день работы по-новому прошел благополучно. Начали жать на полтора часа раньше, кончили на три
часа позднее обычного. Результат — две с половиной нормы. Прокатов был в отличном настроении, хотя устал так,
что еле стоял на ногах.
— Видишь, как здорово получилось! — говорил он, когда они возвращались с поля. — А ты хотел из-за
девки работу бросить. В таком деле, парень, обуздывать себя надо. Ты еще только жить начинаешь...
Гусь засопел: неужели он знает про Таньку? И огрызнулся:
— При чем тут девка?
— Ну, положим, от меня тебе нечего скрывать. И о Таньке ничего худого я не скажу. Хотя жаль, конечно, что
в город подалась. Так ведь кто нынче на город-то не смотрит? Такие вот, как я да ты, да Пахомовы, которых земля к
себе тянет. А у земли власть — будь здоров! Ты-то сам не испытал ее по-настоящему...
Прокатов шагал медленно, морской походкой, и весь он, приземистый и широкоплечий, казалось, вырастал из
самой земли. И верилось, что он не на словах — в жизни накрепко связан с этой землей. Он продолжал:
— Если мы с тобой хлеб выращивать не будем да убирать его не станем, так и Таньке твоей в городе жрать
нечего будет. Это усвой. Все — от земли. Перестанет земля родить — и заводы остановятся, поезда не пойдут,
космические ракеты не взлетят, вся жизнь умрет.
Прокатов говорил давно известный истины, которые и в школе Гусь слышал не раз. Но здесь, в поле, в устах
человека, душой прикипевшего к земле, эти истины звучали, как правда всех правд. Гусю было неловко, но и как-то
радостно, что Прокатов ставил его, Ваську, на одну ступеньку с собой, говорил не только о себе, но об обоих
вместе.
А Прокатов все говорил:
— Пахомов почему из города вернулся? То, что говорят, будто от нужды — вранье! Два сына у него
взрослые. Раньше жил, а теперь и подавно беды не знал бы. Так нет, вернулся — земля притянула. И вот увидишь,
многих она еще притянет из тех, кто в город подался. А без тяги к земле и в деревне нечего делать. Аксенова взять,
бывшего бригадира. Не лежала душа к земле — пропал человек. Боюсь, что и Толька следом пойдет... Город в
молодости, конечно, манит. Как же! Культура, асфальт, коммунальные услуги. Издали все розово!.. Да что я тебе
говорю об этом? Ты уже понюхал, чем хлеб пахнет, и ты, брат, этого ни в жизнь не забудешь! Где бы ни был,
попомни меня, — к земле придешь.
Всякий раз, когда сухая безоблачная погода стояла долго, Гусю казалось, что так будет без конца, хотя он