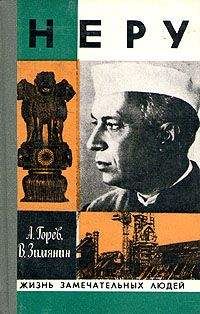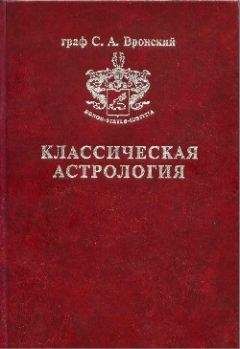Юрий Коринец - В белую ночь у костра
Или ещё такую шутку: «Как пьяный городовой за горничной ухаживает».
Пьяного городового изображал Потапыч Большой, а горничную — Потапыч Маленький. Потапыч Большой крутил воображаемые усы, подбоченивался и кланялся горничной. Он пытался её обнять и поцеловать ей руку, но вдруг пьяно спотыкался, и падал, и плакал на земле пьяными слёзами, икая и обхватывая голову лапами, а потом тут же засыпал, оглашая всю базарную площадь могучим храпом.
Потапыч Большой был замечательным мимическим артистом — все сцены он выполнял с потрясающей убедительностью, его «баба» была именно бабой, «городовой» — городовым, и вместе с тем перед зрителями был медведь, со своими звериными ужимками и ухватками, и этот контраст между изображаемым и изобразителем был настолько комичен, что все бывшие на площади чуть с ума не сходили от смеха! С некоторыми даже случались судороги — такой это был артист!
В конце представления два Потапыча лихо отплясывали русскую или камаринского…
Один раз, в жаркий солнечный день, представление было в разгаре. Потапыч Маленький стоял в середине огромного круга толпы, наряженный горничной. На нём был белый ситцевый платочек, белая кофта и юбка. Левой рукой он держал локоть правой, а пальцами правой упирался в подбородок, кокетливо опустив глаза и виляя бёдрами. Вокруг него увивался Потапыч Большой. Он был подпоясан широким ремнём, на котором болталась деревянная сабля, на голове торчала бумажная фуражка, а на лохматой медвежьей груди висели на ниточка прикреплённые к шерсти огромные серебряные бляхи, вырезанные из шоколадной бумаги. Городовой — Потапыч Большой — восторженно ревел, пытаясь облапить горничную, и приплясывал на месте. Иногда он отдавал горничной честь, качаясь, как маятник…
Толпа хохотала… Вдруг раздался оглушительный свисток. Круг людей разомкнулся — и на площадь вышел настоящий городовой, усатый и краснорожий, и, придерживая на боку свою саблю, засеменил пузом вперёд на середину круга, к артистам.
Артисты его не видели, поглощённые игрой. Толпа смущённо притихла. Настоящий городовой налетел сзади на Потапыча Маленького и закричал, размахивая руками: «Прекратить! Остановить!» Он брызгал слюной и дрожал с головы до ног.
Потапыч Маленький испуганно попятился, срывая с головы платок, а Потапыч Большой развёл лапы, как будто хотел обнять городового, оглушительно зарычал и пошёл прямо на блюстителя порядка. Они были так похожи, что толпа восторженно заревела. Потапыч Большой, наверное, подумал, что явился новый артист. Во всяком случае, он был в полном восторге — он хотел облобызать городового. Но городовой-то не был в восторге! Он был в бешенстве! К тому же он страшно испугался — он отступил на шаг, пытаясь выхватить саблю из ножен. Тогда Потапыч Маленький громко заплакал, кинулся к медведю и повис у него на шее. Круг зрителей дрогнул, и через секунду мужики бросились вперёд. Одни окружили двух Потапычей, другие — городового, тесня их в разные стороны. Чуть не произошла свалка. Медведь ревел, мальчик плакал, городовой свистел, толпа улюлюкала…
Когда все немножко успокоились, городовой заявил, что застрелит медведя на месте, если два Потапыча немедленно не отправятся с ним в полицию. Делать было нечего. Необычная процессия двинулась в полицейский участок.
Впереди шествовали арестованные артисты, за ними грозно шёл городовой с саблей наголо, а позади двигалась огромная пёстрая толпа, крича, смеясь и бурно жестикулируя…
Дядя замолчал, обжигая меня весёлыми глазами. Порфирий улыбался, с нежностью глядя на дядю.
— Ну! Рассказывай! — крикнул я. — Что было дальше?
— Этвас! — подмигнул дядя. — Здесь мы прервём.
— Опять! — рассердился я.
— Мы забыли про форель, — сказал дядя. — Она давно уже испеклась…
Лесная верфь
На следующий день мы встали очень рано, часа в четыре, и расчистила на своём бугре широкое место: мы вырубили можжевеловые кусты и маленькие ёлочки, сбросали в реку одинокие камни, дремавшие в траве, и положили на это место, на землю, перпендикулярно к линии берега десять сырых очищенных берёз. Ещё десять таких берёз мы приставили к берегу так, что одним концом они упирались в верхний край обрыва, а другим концом уходили в воду. Пять из них мы поставили комлями вверх, а пять — комлями вниз. Почему, вы потом узнаете.
Это и была наша верфь!
Мы трудились на ней весь день, до глубокой ночи.
Солнце медленно совершало по небу свой круг, нигде не закатываясь за сопки; оно медленно карабкалось вверх с востока на юг, а потом спускалось с юга на запад, а с запада, не задерживаясь, опять ползло через север к востоку, ползло низко-низко над горизонтом, а потом опять медленно поднималось вверх, оно ни на минуту не останавливалось и не соскальзывало за горизонт, а всё кружилось и кружилось по краю огромной плоскости, наклонённой к плоскости горизонта, и мы тоже не останавливались, всё работали и работали, всё время работали, пока солнце совершало свой круг, работали в самой середине круга, ограниченного горизонтом, в самом центре этой круглой плоскости, и солнце, как огромный круглый фонарь, то ослепительно раскалённый, то матово-красный, всё время освещало нашу верфь, нашу мастерскую на высоком берегу, чтобы нам было светло работать, и мы работали не покладая рук.
Я могу вам даже нарисовать схему — как мы работали, — нарисовать плоскость горизонта и в центре этой плоскости нашу мастерскую, а в центре мастерской нас — меня, дядю, Порфирия и Чанга, — и наклонённую над нами другую плоскость — плоскость движения солнца, — и где между этими плоскостями парили облака, и где находились восток, юг, запад и север, и где располагались холмы и деревья на них, и камни, и где текла река Нива, и где лежало море, в которое текла река, и даже где стоял, приложив лапу к уху, знакомый нам медведь Михайла, дядин друг, потому что он не покидал нас всё это время, он всё время следил за нами, преследовал нас по пятам, преследовал вдоль всей реки — я знал, что он за нами следит, хотя он всё время где-то прятался… Но мы ещё о нём услышим!
Так вот она, эта схема, — пожалуйста, рассмотрите её внимательно, надеюсь, вам картина ясна…
Я очищал брёвна от коры, а Порфирий и дядя делали в них пропилы. Это были особые пропилы: в основании своём они были широкими, а в верхней части узкими; делались они в начале каждого бревна, в середине и в конце, на равном друг от друга расстоянии. Потом, когда все брёвна укладывались одно подле другого, составляя палубу плота, все эти пропилы прорезали палубу тремя перпендикулярными линиями — тогда в эти прорезы загонялись три косых шипа. Так соединялся плот. Такое соединение называется «соединение косым прорезным шипом». Шип должен был плотно входить в прорез — тютелька в тютельку, как говорил дядя; если точно пригнать всухую все эти соединения, они будут очень прочными, потому что потом они в воде разбухнут и намертво вопьются друг в друга.
Часть брёвен уже лежала рядышком, очищенные и пропиленные, а мы работали в стороне над другими.
— Перекур! — сказал Порфирий.
Мы сели — каждый на бревно, — и Порфирий с дядей закурили.
Трава вокруг была усыпана стружками, опилками и скорлупой коры, и над верфью стоял терпкий древесный запах.
— О чём ты задумался? — спросил меня дядя, доставая кисет.
— О Потапычах, — сказал я. — Может, ты всё же скажешь, что с ними было дальше?
— Нетерпелив, как девчонка! — сказал дядя, вытирал со лба пот.
Я тоже вытер пот.
— Их не посадили? — спросил я.
— У них был верный заступник, — ответил дядя. — Поэтому их сразу выпустили.
— Князь Шервашидзе? — догадался я.
— Он самый, — кивнул дядя, передавая Порфирию кисет.
Порфирий стал молча скручивать из газеты большую козью ножку.
— А почему Шервашидзе так о них заботился? — спросил я. — Он что, тоже был их молочным братом?
— Остряк! — улыбнулся дядя. — Просто князь очень любил старого смотрителя. Когда-то он служил вместе с ним на Кавказе, в армии. Отец Потапыча Маленького был храбрым казаком, и князь его полюбил. Это князь потом устроил его смотрителем на тракте. Он был его другом. Он даже был крёстным отцом Потапыча Маленького.
— Он его крестил? В церкви?
— Крестил его священник, а князь был крёстным отцом, или, как тогда говорили, восприемником…
— А меня не крестили! — сказал я.
— Ещё бы! — усмехнулся дядя. — Ты же сын большевика…
— А у вас есть крёстный? — спросил я Порфирия.
— А как же! — ответил Порфирий. — Тогда всех крестили… Такое было время…
— Смешно! — сказал я.
— Пошли работать, — сказал Порфирий, вставая, и затушил сапогом дымивший в траве окурок.
— Что мне делать? — спросил я.