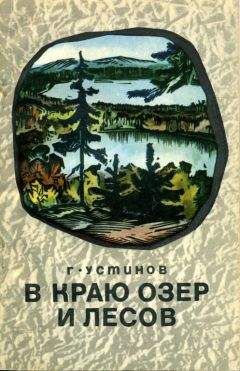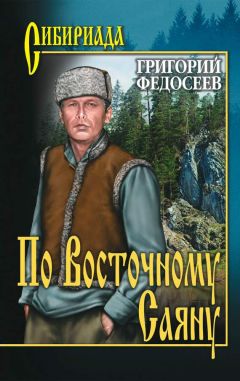Григорий Федосеев - Пашка из Медвежьего лога (Художник И. Коновалов)
Сделав паузу, Гурьяныч снова продолжает: «Чо-ок. Чок-чок-чк-чк…»
Но Пашка начинает сбиваться, срывается с места раньше, чем зашипит «мошник», или запоздает остановиться. Гурьяныч сердится.
— Дедушка, ты лучше меня скачешь, давай я стрекотать буду.
— Эко, не можешь, кака тут наука!.. — ворчит старик и уже уступчиво добавляет: — Ну пострекочи, а я покажу.
Пашка сходит с площадки, занимает место Гурьяныча на пне. Вижу, на лице у него какое-то лукавство. — Внимательно слежу за ним.
Гурьяныч отходит от костра, подтыкает за пояс длинные полы однорядки, расправляет плечи, берет ружье двумя руками так, чтобы в любой момент можно было его приложить к плечу, и кивком дает знак внуку начинать.
Тот застрекотал. Но как! Я, буквально обомлел. В его звуках слышалась живая птичья интонация, страстный ритм, удивительное подражание. Он изредка щелкал языком, будто птица в азарте касалась упругим крылом сучка.
«Ишь ты, какой мастер!» — подумал я. И как бы в подтверждение этого в лесу зачокал разбуженный его песней глухарь.
Гурьяныч дождался, когда «мошник» зашипел, молодецки сделал три прыжка и замер. Пашка повторил песню еще и еще да вдруг как зачастит. Старик не хотел отстать от ритма, но в первом же прыжке задел ногами за валежник, споткнулся и, не удержав равновесия, упал.
Я подбежал к нему, помог подняться. Пашка схватился за живот, беззвучно хохочет.
— Ведь сманул же, дьяволенок! Нарочно подстроил, ей-богу, подстроил. — Гурьяныч трясет в сторону Пашки кулаком. — Ужо я тебя отстегаю ремнем! Подожди, бабушке все расскажу, как глумишься над дедом, она те кудри завьет!
Последняя угроза действует мгновенно. Пашка обрывает смех, послушно подходит к дедушке, подает ему слетевшую с головы шапку, стряхивает с однорядки мусор.
— Не говори бабушке, она расстроится.
Садимся ужинать. Едим молча. Гурьяныч то и дело растирает ушибленное колено и с обидой косит глаза в сторону Пашки. Вижу, тот вычерпывает из чашки остатки похлебки, подносит ко рту да вдруг как фыркнет, как захохочет снова. Старик хотел было цыкнуть на него, да сам не выдержал и тоже рассмеялся. А за ними и я. Смеялись все дружно, безудержно, забыв про ужин. Я, пытаясь Остановиться, закрываю рот ушанкой, но смех душит меня.
— Ишь, погодка нашел для представления, — примирительно говорит старик.
Пашка прощен. Всем становится легко, весело.
Мы с Пашкой моем посуду. Гурьяныч обхаживает костер: наваливает на него толстыми концами бревна. Где-то в лощине долго, надоедливо бубнит заяц. Даже из него весна делает музыканта! Потом появляется летяга — забавный ночной зверек, похожий на белку, но с перепонками на боках, позволяющими ему делать затяжные планирующие прыжки.
Летягу привлекает свет костра. Вот она быстро-быстро взбирается на вершину сосны, делает оттуда планирующий прыжок вниз и темным лоскутом проносится над нами. На противоположной стороне летяга липнет к стволу у самого основания, опять взбирается на вершину дерева, повторяет прыжки. Прыгает она бесшумно, с каким-то неутомимым азартом.
Низко горят звезды. Одиннадцать часов ночи. Бор в этот поздний час кажется вымершим, мы — безнадежно заплутавшимися в нем. Пашка молодец: уже забрался под одеяло, притих. Гурьяныч тоже готовится ко сну: раскладывает хвою, бросает на нее потник, снимает однорядку. Пора и мне. Разворачиваю спальный мешок, кладу под голову телогрейку, начинаю разуваться. Пашка опять как захохочет под одеялом. Гурьяныч растерянно смотрит мне в глаза и тоже смеется.
Меня вдруг осеняет догадка: наверно, Пашка смеется уже не над дедом, а что-то еще замышляет и заранее радуется предстоящей проделке. Признаться, эта догадка не очень-то радует.
Старик пальцем манит меня к себе, припадает щетиной усов к моему уху, заговорщически шепчет:
— Разбужу до зари, пойдем вдвоем, чтобы он не слышал. Хватит с него и одного глухаря. Пусть поспит утром.
Я утвердительно киваю головой и, ничего не сказав о своем опасении, бесшумно отползаю к постели.
Втайне я завидую этому конопатому озорному пареньку, его ловкости, находчивости. Моя привязанность к нему все крепнет. Но обстрелять его я все же должен!
НЕОЖИДАННЫЙ ВЫСТРЕЛ
Меня будит легкий толчок в бок. Раскрываю глаза — вижу перед носом предостерегающий палец Гурьяныча: не шуметь! Воровски, осторожно выбираюсь из мешка. Пашка спит, согнувшись калачиком и закутавшись с головой в одеяло. Теперь уйти бы со стоянки незамеченными, и тогда… Словом, у нас есть шанс поправить свои охотничьи дела.
Бедный парнишка, как же ты будешь огорчен, когда проснувшись, не найдешь ни меня, ни дедушки на месте! А ведь наверняка, засыпая, ты заказал себе встать раньше нас и исчезнуть прежде, чем мы пробудимся. На этот раз тебе не повезло!
Я на ходу подпоясываю патронташ, хватаю ружье. Старик идет с шомполкой, весь обвешан припасами: порох он держит в бычьем роге, дробь в кожаном мешочке, пистоны — в металлической коробочке. Все это висит на груди, как доспехи. Паклю для пыжей он хранит на голове под шапкой, чтобы в непогоду не отмокла.
Уходим в лес, облитый лунным светом. Когда исчезает огонек костра за густыми стволами сосен, Гурьяныч оглядывается.
— Ужо спохватится! — И он хитровато подмигивает мне.
Вокруг мертво и пустынно. Идем не спеша по еле заметным просветам. Впереди — старик. Твердой походкой он шагает по захламленному лесу и, не глядя под ноги, обходит пни, колоды, рытвины. Я не отстаю от него.
— Кажись, пришли. Тут переждем — вот-вот мошник строчить начнет.
Мы присаживаемся на валежину, ждем…
Луна прячется за тучи. Тьма-тьмущая встает в таинственной глубине бора. Еще нет признаков рассвета. Еще ничто живое не проснулось, не выдало своего существования. Но по каким-то неуловимым признакам уже чувствуется, что просыпается старый лес от сладостных весенних грез, что вот-вот там, на востоке, за невидимыми хребтами появится победный свет утра.
С какой-то внезапностью сквозь немую тишь дремлющего леса прорвался громкий гортанный крик.
— Куропат! Теперь скоро… — шепчет Гурьяныч. Где-то далеко-далеко слабо зашумело — то ветерок несет по лесу беспокойство.
Опять тягостная тишина — будто в заколдованный лес попали мы.
Гурьяныч поглядывает на восток, грустно вздыхает. Ему тоже невмоготу ожидание. Неужели утро проспало свой час?! Каждый звук, долетающий до слуха, тревожит воображение.
И вдруг знакомое: «Чо-ок…»
Я вздрагиваю, точно от удара. Гурьяныч хватает рукой меня за плечо, замирает.
Где-то повторилось: «Чок-чок…»
— Глухарь? — не веря себе, спрашиваю шепотом.
— Он, мошник, — отвечает тот едва слышно.
Но вот слева, обжигая слух, неистово запела птица. Она пела среди полной тишины, бросая в пространство жгучий призыв. А на востоке, за густыми кронами сосен, просыпалось утро — там уже отделилось небо от земли.
В лесу еще больше сгустился предрассветный мрак ночи.
Слышим, и справа зачокал глухарь. Другой запел сбоку. Сзади застонала копалуха… Лес захлебнулся.
— Шагов с полсотни пройдем, там и подскакивать станем. Ты только, тово, ногами не шаркай… Говорил, спусти штанины поверх голенищ. — И Гурьяныч подтянул на животе кушак, убрал повыше полы однорядки, бесшумно зашагал меж деревьев.
Я — за ним. Стараюсь ступать шаг в шаг. Он останавливается — и я тоже…
Песня не стихает: то уходит от нас, то слышится рядом, и тогда мы со стариком замираем, долго всматриваемся в темные силуэты вершин деревьев. Но глухаря увидеть еще невозможно.
Стоим. Не могу унять стук сердца. Все исчезает, не остается иных ощущений, кроме напряженного ожидания. А мошник поет. Сквозь мрак отступающей ночи, сквозь синие просветы крон, сквозь тишину разливается по всей громаде лесов его зовущий клич…
Он умолкает в короткой передышке и снова бросает в пространство: «Чо-ок, чок, чк-чк-чк…»
— К нему подскочим, — слышу шепот.
Гурьяныч подает знак приготовиться. Он выбрасывает вперед шомполку, настороженно ждет. Я делаю то же самое. Пристально слежу за каждым его движением.
В раздутых ноздрях старика, в пристальном взгляде, в спружиненной спине, во всей позе чувствуется крайняя напряженность, сосредоточенность опытного охотника.
Бор оживает, все больше и больше наполняется глухариными песнями. Самцы поют наперебой друг перед другом, спеша насладиться короткой весенней зарею. Отовсюду доносится шум сильных крыльев. Это опоздавшие. Они с треском падают на вершины сосен и с ходу бросают в лесное пространство свой горячий призыв.
Наш глухарь не обрывает «строчки». Мы уже с Гурьянычем подскочили близко к нему. Я его не вижу, но он где-то тут, рядом, в густых ветках старой сосны. Слышу, как в азарте он чертит упругими концами крыльев о сучок, как шелестит, падая на землю, сбитая им кора.