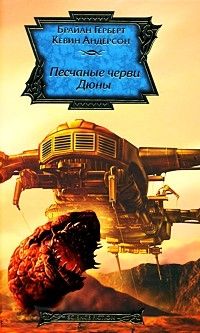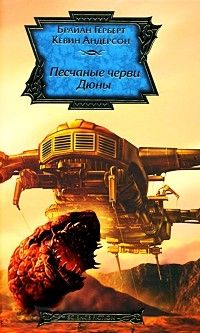Вадим Нечаев - Пат и Пилаган
Ему было приятно идти на широких лыжах и приятно, что дома его ждет сын. День был морозный, сухой, и дышалось ему легко. На поляну выскочил заяц, привстал на задние лапки, повертел по сторонам головой; охотник свистнул, засмеялся над заячьим испугом… Завечерело, и солнце скрылось. И все стало таким плоским, скучным: небо, холмы, деревья; и охотник ускорил шаг.
Пат лежал в постели, когда вернулся отец, и думал о всяких вещах, но больше — о собаке. «Почему она вышла из леса? — думал Пат. — Или она заболела, или повздорила с вожаком стаи. Вот сейчас она лежит у дома шамана и дремлет перед своей смертью. А может, в ней душа нашего дедушки плачет от голода».
— Батя, — сказал Пат, — сегодня я видел собаку, она лежит и не двигается с места, а в животе ее пусто и холодно; дадим ей завтра немного твоей рыбы?
— Хорошо, — сказал отец.
На следующий день Пат с отцом, как всегда, поднялись в шесть часов, когда в тайге стояла еще ночь, ополоснулись ледяной водой, плотно позавтракали и, выйдя из дому, направились к околице села, туда, где под крыльцом одиноко помирала приблудная собака. Она лежала с закрытыми глазами, и нос ее покрылся инеем.
— Неужели умерла? — воскликнул Пат.
— Нет, — сказал отец, — она сны видит.
Пат положил около собаки рыбу и увидел, как ожили глаза ее, пасть и мускулы. С жадностью и урчанием она съела все, вплоть до костей.
Подняв голову, собака слегка повыла в небо и легла у ног мальчика.
— Знаешь что, — сказал отец, — не надо брать эту собаку, по-моему, она не собака. Я вижу, она с Большой земли прибежала по льду.
— Что ты, ытык! Я же хорошо вижу, что это собака, неужели бы я не отличил собаку от несобаки?
Отец усмехнулся:
— Ты хитрый, Пат, и все-таки не надо брать ее домой. Пат заплакал, хотя раньше он почти никогда не плакал.
Пат представил, как собака лежит мертвая на боку и как ее засыпает снегом, и душа дедушки, бездомная, бродит возле и высоким голосом стонет, не зная, куда же ей теперь переселиться.
— Ну ладно, — согласился отец. — Потом ты сам увидишь, собака это или не собака. И воспитывай ее сам.
Так она стала жить в доме Пата. Первые дни ее никто не трогал, и она только и делала, что ела, спала, опять ела, опять спала и незаметно для себя обвыкалась с теперешними нормами жизни. Пат сам кормил собаку, расчесывал ей шерсть и подолгу вел с ней беседы. Она быстро набиралась сил; отец часто смотрел на собаку и не мог понять, отчего она так смирно ведет себя, будто и в самом деле она хорошая, доброкачественная, на все сто процентов, собака.
«Опасная затея, — думал отец, — опасная, и зачем Пату понадобилось приручать волка, разве мало собак в упряжке, а сколько их вообще в поселке! Пусть дикость живет в дикости».
Однажды Пат решил взять с собой пилаган в школу. Не успели они выйти на главную улицу, как их окружила огромная свора собак со всего поселка. Они злобно лаяли, ворчали, скулили и медленно подбирались к пришельцу из другого мира. Сильнее других ярился их вожак, большой пес, отмеченный, как наградами, множеством шрамов на груди и плечах. Пилаган отбежал к дереву и уперся об него спиной, и когда пес кинулся, он щелкнул зубами, и пес отлетел с разодранным горлом.
— Ытык! — закричал изо всех сил Пат.
Отец выбежал из дома с кнутом. «Олля, олля!» — грозил он собакам на бегу, но без успеха: те разъярились, и запах крови родил в них месть и мужество для мести. Чужаку пришлось бы туго, если бы вовремя не подоспел Вытхун, который начал хлестать свору направо и налево.
Через некоторое время отец захотел запрячь пилаган в ременную упряжку. Собака отбежала на почтительное расстояние, и как отец ее ни уговаривал, не подпускала к себе.
— Сплошная морока с ней, — сказал отец другим собакам. — Пойду позову Пата, пусть сам справляется.
Пришел Пат и позвал собаку: «Атак, Атак!» Недавно он дал ей новое имя: Атак, и по этому поводу отец очень смеялся, потому что «атак» на нивхском языке означает «дед».
Атак подбежал к мальчику, и тот поставил собаку в упряжку. Отец взмахнул кнутом, крикнул: «Гой, гой!» — и упряжка рванулась с места, и Атак, чтобы не дать себя сбить с ног, волей-неволей тоже побежал, но на повороте, когда остальные собаки замедлили бег, пес не успел сообразить, натянул сильно постромки, нарты чуть не перевернулись, и передовик, обернувшись, злобно схватил Атака за плечо, а тот, конечно, обиды не стерпел, все смешалось в кучу, и каюр Вытхун, ругаясь на чем свет стоит, стал разнимать кнутом дерущихся. Атаку, конечно, попало больше всех, и тогда он понял, что нужно уметь подчиняться.
Около месяца отец и сын поочередно учили Атака ходить в упряжке, ночевать под снегом и правилам общежития с другими собаками. Атак был понятлив и сообразителен, и прежняя ожесточенность, остервенелость, накопленные за многие годы в лесу, мало-помалу уступали в нем место миролюбию и терпимости. Внове для него были и ласки мальчика. Атак терялся, конфузился и не знал, как отвечать на них, потому что любовь к Пату не согласовывалась ни с его прежним опытом, ни с опытом предков.
«И все-таки, — думал Пат, — пес когда-то знал человека: уж слишком быстро, прямо на лету, привыкает он к новым законам; но это было давно, и какая-то неизвестная сила, наверно, выкинула его из стойбища в дикую тайгу. Может быть, то был голод, может быть, лесной пожар, и все бежали от него по реке на лодках. А пилаган пришлось стать волком».
«Конечно, — размышлял в другой раз Пат, — собаке гораздо легче превратиться в волка, чем волку стать собакой. Вот поэтому-то его так не любит и боится упряжка. Да и масть у него иная, не похожая на здешних. И крупнее он всех собак раза в полтора».
Вскоре в поселке все узнали Атака, и, несмотря на то, что женщины пытались поласкать его и бросали ему рыбу, а дети преследовали его своим назойливым вниманием, Атак оставался отщепенцем, близко к себе не подпускал и не признавал ничьей власти, кроме каюра Вытхуна и его сына Пата.
Правда, он полюбил греться у костров и мог целыми часами лежать возле и смотреть в огонь, особенно если рядом был Пат; мальчик спокойным и мягким голосом разговаривал с ним и гладил возле ушей, а он хмурился и слегка поводил хвостом. И выражение глаз у него было таким, будто он мечтал о чем-то.
Когда же наступала ночь, Атак зарывался в снег и засыпал, но во сне он вдруг начинал рычать, и от его рычания просыпались другие собаки в поселке, и вскоре тишина взрывалась суматошным воем и лаем; от ночных кошмаров Атак порой наутро выглядел усталым и мрачным.
Все же обучение его продолжалось успешно, и не прошло двух месяцев, как он усвоил не хуже других тонкости упряжного ремесла, и с каждым днем привязывался все больше к своим хозяевам.
К собственному удивлению, Атак даже пристрастился к гонкам. Гордость и честолюбие не позволяли ему трудиться шаляй-валяй. Как только он слышал свист бича и резкий окрик каюра «гой-гой!», он со всех ног бросался вперед и несся по накатанной дороге мимо застывших озер, сопок, поросших густым и дремучим лесом, не сбавляя скорости, и уже ничто для него не существовало, кроме радости бега, Напряжения мышц, и воли, и редких выкриков его хозяина. И порой казалось, что не каюр, а он, Атак, верховодит гонкой…
Вскоре Вытхуну и его сыну Пату стало ясно, что Атак самая выносливая, стойкая и умная собака во всей упряжке, и единственно, что их смущало, почему он совершенно не претендует на роль вожака. Никогда он не задевал Желтого Пятна, не строил ему козней, не подзуживал втихомолку против него стаю. Можно было подумать, что пес вполне и окончательно доволен своей независимостью и хочет только одного — чтобы его оставили в покое. Он, мол, никого не трогает, и пусть его никто не трогает. «Но так не бывает, — понимал каюр, — не бывает так на свете, чтобы ты жил со всеми вместе и в то же время один. Ни к чему хорошему это привести не может».
Пат теперь почти не расставался со своей собакой. Атак провожал его в школу и встречал после уроков. По воскресеньям они вместе отправлялись на охоту, и давно миновало время, когда Пата обижали его сверстники. Собаку и мальчика соединяла уже не просто привязанность, рождающаяся от привычки видеться ежедневно, а нечто более глубокое и могущественное, то, что мы называем любовью.
И эта любовь не была похожа на ту любовь, которую питает вечно занятый горожанин к своей обленившейся собаке, питает от скудости и неполноты жизни, от обиженности на соседей или угрюмости характера, от одиночества или уязвленного самолюбия. В свою очередь, для собаки человек — и хозяин ее, и покровитель, и кормилец, потому что город настолько извратил ее природу, что из всех собачьих способностей уцелели только две: сторожить квартиру и чинно гулять в наморднике по асфальтированным улицам.
От привольного житья за несколько месяцев пилаган полностью окреп, и когда Пат смотрел на своего огромного пса с его лоснящейся шкурой и коричневыми пятнами различной расцветки, с играющей мускулатурой, чуткими и осмысленными глазами, походкой — бесшумной и полной достоинства — он как бы размягчался и в то же время чувствовал не то чтобы страх, а какой-то боязливый озноб: а вдруг когда-нибудь темная сила или несчастная нелепица разлучит его с Атаком.