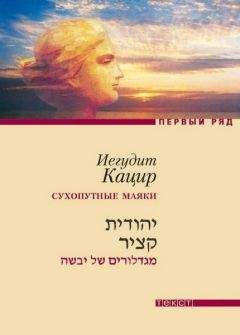Василий Никонов - Сабля Лазо
«Господи, господи, оборони его, царица небесная, — привычно шепчут губы. — Дай ты ему радость и утешение за муки мои и смерть невинную».
— Говори! — хрипит вахмистр.
Смекалина опускает голову вровень с головой вахмистра. Боль и терпение застыли в глазах женщины.
— Придет час, — произносит Татьяна Карповна, — отольются наши слезы горючие. А тебя, Ирода, ненавижу! Проклинаю!...
Молча, в упор стреляет вахмистр. Ни слова, ни звука не срывается с губ Татьяны Карповны. Безвольно сгибаются колени, плетьми повисают руки. Глухо падает на песчаный двор. Лицом вниз, к родной земле.
— Маманя! — хочет крикнуть Тимка. — Маманечка-а!
— Молчи, Тимка! — Кирька зажимает ему рот, изо всех сил пригибает к земле. Оказывается, иногда и он с Тимкой может справиться.
— Сжечь! — вахмистр тычет плеткой в сторону мазанки. — Ее туда! Шевелись!
Семеновцы бросаются к мазанке. Рыжий солдатик из соседнего двора сена тащит, со всех сторон курнушку обкладывает. Другой солдат в избу заскочил, лампу разыскал. Плеснул керосином раз-другой. Рыжий спичку подносит. Вспыхнула солома, загудела.
— Туда ее! — командует вахмистр. — Чтоб заразы не было!
Рыжий солдат хватает Татьяну Карповну, тащит в сени.
— Ироды! Кровопийцы! — кричат из толпы.
Брянцев круто поворачивается, пенсне от неожиданности падает, качается на позолоченной цепочке.
— Что? Кто? Выходи!
Молчат люди, никто не трогается. Брянцев ловит пенсне, дрожащей рукой насаживает на нос.
— Пороть! Всех пороть!..
Кирька отпускает Тимку. Тот лежит лицом к земле, всхлипывает, судорожно гребет землю руками.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
САБЛЯ
Дотла сгорела смекалинская землянушка. Народ, что на дворе стоял, на площадь погнали — сечь, как вахмистр приказал.
Кирька с Тимкой все еще у стайки лежат. Тимка хотел к месту пожара подойти — Кирька опять не пустил.
Лицо у Тимки серое, словно из гнилушки вырезано. Глаза дикие, совсем сумасшедшие. Все в одну точку глядят.
— Пойдем к нам, — просит Кирька. — Я тебя в сараюшке спрячу.
Не откликается Тимка, о другом думает.
— Слушай, Кирька, ты мне друг?
— Друг, конешно.
— У кого офицер остановился?
— У Козулиных.
— Пойдешь со мной?
— Куда?
— В засаду,
— В какую?
— Потом скажу. Пойдешь?
— Нет, Тимка, у меня маманя больная.
— Слушай, Кирька... Первый раз прошу. Хочешь, ершовскую саблю отдам? Ты не думай, я ее не прикарманил — просто не сумел переслать.
Колеблется Кирька, не знает, как быть. Сабля — штука хорошая. А вот засада — неизвестно, что случится.
— Павлинку возьми, — хитрит Кирька.
— Павлинка не пойдет.
— Почему?
— Сам знаешь.
— А вот и пойдет! — уверяет Кирька. — Вы убили ее отца, они убили твою мать. Значит, квиты.
— Говори: согласен иль нет?
Трудно Кирьке решиться. Главное, у Тимки еще один козырь есть: в тайгу может не пойти. Эх, была не была!
— За саблю? — переспрашивает Кирька.
— За саблю.
— Навсегда?
— Навсегда.
— Согласен. Говори, что делать?
— В пещеру пойдем, дорогой расскажу.
Выходят ребята на берег, глядь: Павлинка стоит. Пасмурная, заплаканная. Видела она, как ребята огородами пробирались: в толпе со всеми стояла. И как за стайку прятались — подглядела. Когда на площадь погнали, ее сам вахмистр за руку взял, из толпы вывел. И Дарью Григорьевну, маманю ее.
— Куда вы, ребята? — спрашивает Павлинка.
— В пещеру, — останавливается Кирька.
— Меня возьмете?
— Не знаю... — мнется Кирька. — Вот наш командир.
— А ты не сердишься? — Тимка берет Павлинку за руку. — Ну, понимаешь...
— Что делать? И у тебя горе-горькое.
— Тогда бежим! — приглашает Тимка. — Есть у нас один план, в пещере скажем.
— Бежим, Павлинка! — радуется Кирька. — Втроем, знаешь, как весело!
Козулинский дом стоит за церковью, наискосок от Копачей. Высокий, просторный — пятистенный.
Купец Ерофей Козулин — первейший человек на селе. Кому голод, а у него всего вдосталь. Не в амбарах, понятно. Амбары пусты. В надежном месте спрятано, в тайниках.
Сегодня у Козулиных гостюет вахмистр Брянцев. Все, что ни на есть вкусного и сытного, выставил Козулин. Самогону — море, закуски — всему селу не съесть.
Гуляет вахмистр Брянцев, от души веселится. До пота поработал, до ломоты в косточках. Десять душ загубил, пятерых сам расстрелял. Да на площади двадцать человек высекли. Надо ему встряхнуться, сердце потешить.
Гуляет вахмистр, а про дозор не забывает. Все село семеновцами окружено, у дома казак с винтовкой ходит, плеткой помахивает.
Казак ребятам нипочем, они огородом пробрались, на сеновал залезли. Сеновал как раз против окна приходится, того, что рядом с сенцами. Все видать, что в комнате делается.
Так случилось, что втроем в засаду подались. Тимка Кирьку с умыслом взял: если вахмистр на улицу не выйдет, Кирька должен выманить его. На этот счет у них особый план. Если ж вахмистр по доброй воле очутится, — Тимка один с ним поговорит.
Павлинка за компанию увязалась. Так и сказала: «Не могу я без вас, ребята, что хотите делайте. Как дружили, так дружить и будем».
А что с ней делать? Пусть смотрит. На Тимку она зла не имеет, и он на нее. Что было, то было, — прошлого не вернуть.
На беляков надо злиться, они войну затеяли.
Вахмистр с Козулиным у окна сидят, рюмками чокаются, обнимаются. У Козулина борода красивая, черным-чернешенька, чуть не по пояс; у вахмистра от смеха кудряшки трясутся. Оба, видать, навеселе, потому что вахмистр головой в козулинскую бороду тычется, а купец его кудряшки целует.
Батюшка с крестом на животе по горнице расхаживает, светлой гривой трясет. Раскроет рот, рюмку опрокинет и опять туда-сюда, как маятник.
На улице светлым-светло. Небо темно-синее, в блестках-звездочках, луна чистая, полная, высокая. Все Межгорье освещает.
Народ в селе словно вымер, один козулинский дом светится. Вдруг вахмистр взмахивает руками, поднимает голову, рявкает по-медвежьи:
Скакал казак через доли-и-ну,
Через маньчжурские края-я...
Песню подхватывают, орут, кто во что горазд, лишь бы слышней было. Видно, страх от себя отпугивают.
Три часа лежат ребята на сеновале. Кирька зевать стал, на сон потянуло. Хорошо здесь, мягко, славно сеном пахнет. Павлинка, чтоб не заснуть, стихи какие-то бормочет. А может, и не стихи — молитву какую-нибудь. Один Тимка на страже — вроде того казака, что под окнами сапожищами топает.
Все по очереди во двор выходят, один вахмистр будто завороженный. Сидит, самогон глушит, то попа, то Козулина целует.
— Не выйдет, наверно, — шепчет Кирька.
— Вызывай! — поднимается Тимка. — Уговор помнишь?
— Боязно, Тимка.
— Ну!
— Хочешь, я схожу? — напрашивается Павлинка. — Я знаю, как его выманить. Хочешь?
— Пусть он, — не сдается Тимка. — Хватит ему труса праздновать.
Нехотя спускается Кирька с сеновала, боязливо открывает двери. Видно в окно, как пробирается он меж пьяных, что-то шепчет Брянцеву на ухо. Вахмистр вскакивает, одергивает френч, трогает усы, подается к двери. В ту же минуту Тимка стрелой вниз и — к сенцам. Едва успел шепнуть Павлинке: «Убегать по огородам».
Нетвердо ступает Брянцев на крыльцо, изрядно покачивается. Туда-сюда головой крутит.
— Иванов!
— Я, вашбродь!
— Ты тут, братец? Ну, ну, смотри в оба... Эй, как тебя!.. Показывай красотку. Где она?
— Здеся, господин вахмистр. За сенцами.
Спускается вахмистр с крыльца, за сенцы поворачивает. А за ними Тимка стоит, руки назад держит.
— Тебе чего? — икает Брянцев. — Ты чей?
— Я — Тимка Смекалин. Вы убили мою маманю и сожгли.
— Что ж из этого следует? — Брянцев тянет руку к кобуре.
Но Тимка опережает его.
— Получай, гад! За маманю, за всех!
Всю силу вкладывает Тимка в сабельный удар. Вскрикнув, Брянцев мешком валится на землю.
— Иванов... сюда, Иванов!.. — хрипит вахмистр.
Тимка прыгает через прясло, забегает за сенник. Ребята впереди его по огороду летят. За огородами лебеда растет, высокая-превысокая, взрослого не увидишь. Ныряет в нее Тимка, ребят ищет. Лебеда в глаза тычется.
— Здесь мы. — Павлинка хватает Тимку за штанину. — Ложись!
На козулинском дворе паника поднялась. Пьяные казачки в небо палят, поп и Козулин с вахмистром возятся. А возиться с ним нечего — готов палач Брянцев, испекся.
Дозорные за селом тоже пальбу открыли. А что, почему — никто не знает. Суматоха.
— Разбегаемся, ребята! — шепчет Кирька. — Мы с Тимкой к нам. А завтра в тайгу подадимся. Ищи ветра в поле.