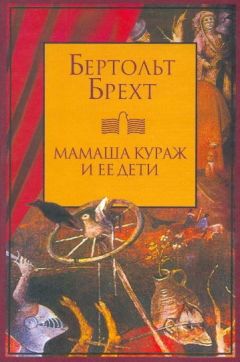Илья Туричин - Кураж
На письменном столе зажглась лампочка. Порфирин взял телефонную трубку.
– Порфирин. Как у тебя с вагонами?… Надо один дать цирку…
– Знаю, но надо… Двухосную платформу?… Хорошо. - Он положил трубку. - Теплушек нет. Не обессудьте. Только платформа.
– Но слон… - попытался возразить Григорий Евсеевич.
– Берите пока дают, - снова вмешался военный.
– Есть! - ответил Григорий Евсеевич. - У меня все.
– А у меня вопрос, - сказал Порфирин. - Что за семья артисты…
– Лужины, - подсказал военный.
– В каком смысле? - удивился Григорий Евсеевич.
– Что за люди?
– Хорошие люди. Иван Александрович - член партии. Гертруда Иоганновна осталась в Советском Союзе во время гастролей в тысяча девятьсот двадцать шестом году.
– Почему? - спросил военный.
– По любви. Влюбилась в нашего Ивана Лужина. И он, соответственно, влюбился. Весь цирк переживал. Отец ее Иоганн Копф - известный цирковой артист.
– И как он отнесся к поступку дочери?
– Загрустил, конечно. А что предпримешь, если дело уже сделано, Я думаю, он бы и сам тогда остался.
– Что ж не остался?
– Трудно сказать. Контракты. Обязанности, Они от нас по Скандинавским странам поехали.
– Гертруда Иоганновна переписывается с отцом?
– Нет. Вот уж года три.
– Что так?
– Иоганна Копфа арестовали.
– За что?
– Подробностей не знаю… Кажется, что-то позволил себе на манеже против Гитлера.
– То есть?
– Ну… В цирке есть много способов посмеяться. Да вы не думайте, Гертруда - наш человек, советский. Она тут вторую Родину обрела. У нее здесь все, - горячо сказал Григорий Евсеевич. - И дом, и семья, и счастье. И детей воспитала правильно. Они все у меня на глазах росли. В цирке душу не утаишь. Ежели дрянь человек, и грим не поможет.
– Спасибо, - сказал Порфирин. - Разговор был строго конфиденциальным.
– Ясно.
– И не тяните с эвакуацией, - добавил начальник милиции. - Запрягайте коней завтра же утром.
– Не успеем шапито разобрать.
– Да бог с ним, с шапито! Вывозите людей и самое необходимое. Видите, что творится? Прут немцы. Кровью истекают, а прут, - сказал военный.
– Что ж их не остановят? - вырвалось у Григория Евсеевича.
– Остановят, - сказал Порфирин. - Не вдруг, но остановят. И погонят! Но не вдруг.
11
Возле "пушкинской" скамейки сошлись Великие Вожди. Яблони, усыпанные мелкими зелеными яблоками, отбрасывали тень на дорожку, но прохладнее от нее не становилось. Сад томился от зноя, ждал дождя, или ветра, или хоть махонького ветерка, листвой шевельнуть.
Лицо Долевича облупилось от солнца, он осунулся, в голосе и жестах пропала уверенность. Отца мобилизовали в армию, и вчера он ушел. Мать пострадала во время первой бомбежки, лежала в больнице. Сестренка осталась на его руках. Вот и приходится водить ее с собой. Отец строго-настрого наказал ее беречь. Да разве он и сам не понимает!
Вот она собирает опавшие яблочки в подол. Рыжие косички заплетены кое-как, шнурок на ботинке развязался.
Великие Вожди стояли кружком и молчали. Иногда молчание красноречивей слов.
Катька непременно наступит на шнурок и шлепнется…
– Катерина, завяжи шнурок, - приказал Василь.
Злата отделилась от кружка, подошла к девочке и, откинув сумку противогаза на спину, присела на корточки, занялась шнурком.
И у Василя через плечо висел противогаз. Они со Златой дежурили.
– Завтра утром мы уезжаем, - сказал Павел громко, чтобы слышала Злата.
– Мы тоже, - сказал Серега. - Наш завод эвакуируют.
– Немцы, говорят, совсем близко. - У Толика топорщился карман брюк - таскал по привычке собачий обед. Но собаки не торопятся к нему, жарко, не до обеда.
В воздухе возник слабый звук. Он густел. Высоко в раскаленном небе появился непривычный самолет с двойным фюзеляжем.
– "Рама", - сказал Серега. - Разведчик.
Со словом "война" вошло в обиход множество новых слов: "линия фронта", "эвакуация", "бомбежка", "рама", "фрицы"…
– И чего его не сбивают? - воскликнула Злата и топнула ногой. Словно угадав ее желание, в небе появилась точка. Она быстро приближалась к "раме". Немецкий самолет отвернул. Точка сделала крутой вираж, блеснув на солнце, пошла навстречу "раме" и взмыла вверх. А у "рамы" появился, тонкий хвост дыма. Возник пронзительный звук, самолет стал быстро терять высоту и исчез из виду. А черный дымный хвост повис в ослепительной голубизне.
– Ура! - заорали Великие Вожди.
– Так ему, гаду! - сказал Василь.
– Всех надо посбивать, чтоб ни одного не осталось! - Синие глаза Златы сверкнули.
– И посбивают, - сказал Серега. - Что они могут против нас!
– Ничего, - сказал Петр. - Только почему наши отступают?
– От внезапности, - пояснил Толик. - Слышал, как по радио сказали: вероломно напали без объявления войны.
– Наполеон Москву взял, а все равно ничего не вышло, - сказал Серега.
– Ну ты, Москву еще!… - хмуро мотнул головой Василь.
– Это я только так, как исторический пример.
– Все равно. Он ее не взял. Кишка была тонка. Кутузов его туда заманил. Может, и мы их заманиваем? - возразил Василь.
– Может, и заманиваем, - согласился Серега.
– Вот вы где есть! Еле нашла, - раздался голос Гертруды Иоганновны, и она появилась из-за яблонь.
– Что случилось, мама? - спросил Павел встревоженно.
– Наш папа уходит в Красную Армию. На войну.
– Война, война, и долго будет эта война? - воскликнула Злата. И ее отцу утром принесли повестку.
Гертруда Иоганновна повернулась к Злате, посмотрела на нее опечаленными глазами и тихо сказала:
– Их отшень много. И они отшень сила. Да. Но тут, - она притронулась ладонью к груди. - Тут у них пусто. А когда тут пусто, никакой сила не может помогать. Я понятно?
Злата кивнула.
– У нас тут - сердце, душа. Душа прибавляет силу. Они - фашисты. Они ослепленные. Их надо отшень долго бить, чтобы немцы опять стали видеть. Да. - Она замолчала на мгновение, словно проверяя крепость собственной мысли, потом позвала: - Идемте, малтшики. Папа ждет.
Великие Вожди стали молча пожимать друг другу руки. Вот и распался Большой Совет. Прощай, "пушкинская" скамейка, и ты, сад, прощай.
Павел посмотрел в синие глаза Златы, нахмурился.
– Идемте, - повторила Гертруда Иоганновна и заспешила к калитке.
А Злата порывисто схватила Павла и Петра за руки и внезапно поцеловала одного и другого в щеки.
Братья покраснели и побежали догонять маму.
– Ну уж… - Василь ковырнул носком ботинка землю. - Нежности…
– Я и тебя, Ржавый, поцелую, когда будешь уезжать.
– Надо очень!… - фыркнул Ржавый. - Да мне и уезжать некуда… - И он покосился на сестренку, которая раскладывала собранные в подол яблочки, выстраивала их в две шеренги, словно солдатиков.
12
Артисты цирка упаковывали вещи.
Григорий Евсеевич ходил по вагончикам и предупреждал, чтобы брали самое необходимое. Только то, что можно унести с собой. А багаж у всех был большой: аппаратура, реквизит, костюмы, сотни мелочей, к которым привыкли, без которых, казалось, невозможно было обойтись.
– Нет, - говорил Григорий Евсеевич неумолимо. - Ничего лишнего.
В своем вагончике Флич перебирал аппаратуру и вздыхал.
– Брось, - сказал сердито дядя Миша. - Не надрывай душу. И так тошно.
– Ах, Мишель. Разве такой второй столик сделаешь? Он же неповторим! А эта ваза. Где я возьму еще такую вазу?
– Все гибнет, Яков. Рушится. А ты - столик, ваза…
– Как будто я для себя!… Ведь кончится же это когда-нибудь!… И мне скажут: старик Флич, позабавь людей, отвлеки их от горя… Вот когда понадобится она, аппаратура.
– Понадобится… Если выживешь… - сказал дядя Миша, надел зачем-то на лысину рыжий парик, посмотрел в зеркало и добавил грустно: - Да-а… Финита.
В вагончик заглянули Павел и Петр.
– Флич, дядя Миша, вам помочь?
– А вы что, уже управились? - спросил Флич.
– Мама сложила только костюмы. А так все бросаем.
– Бросаем, - у дядя Миши стало такое страдальческое лицо, будто заболели зубы.
– Перестань, Мишель. Все можно потерять, бросить… Все начать сначала. Вспомни гражданскую! Что было? Даже балагана не было. Телега да кляча. Вобла да пшено. А мы работали, и люди смеялись. Что аппаратура! Кураж потерять страшно. Себя потерять, веру, - горячо сказал Флич.
– Ну-ну, - вяло произнес клоун. - Стар я бегать с места на место. Стар, Яков. Силенки не те.
– Ты что?… Хочешь остаться? Но ведь придут немцы! Чума!
– Чума, - согласился дядя Миша. - Да ведь все одно околевать, что от чумы, что в придорожной канаве. А может, отсижусь? А?
– Мишель, что ты говоришь, Мишель? - Флич, потрясенный, смотрел на старого друга, держа свою "волшебную" вазу в руках. Он хорошо знал дядю Мишу и понимал, когда тот шутит, когда - нет. Сейчас клоун не шутил. Флич закрыл глаза, постоял так мгновение, потом, в сердцах, ударил вазу об пол. Что-то в ней звякнуло, и из горловины выскочила металлическая пружина, закачалась, как игрушка ванька-встанька.