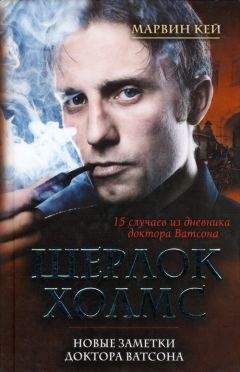Валерий Гусев - Картина с кляксой
И он в самом деле, полистав на чердаке книгу сказок, просунул голову в люк и прокричал русским петухом с английским акцентом:
– Кок-э-дудль-ду!
– Он заболел? – спросил папа маму испуганным голосом. – Или я?
– Оба хороши, – сказала мама. – И я с вами. Боу-воу!
Два дня и две ночи мы вели наблюдение за домом деда Строганова. Ничего нового мы не заметили. Каждый вечер, когда гасло солнце и загорались звезды, дед что-нибудь обязательно носил в сарай. Алешка, не отрываясь от бинокля, сообщал мне:
– Он пошел, Дим. Несет кастрюлю двумя руками; сверху на кастрюле сковорода с крышкой. Под мышкой что-то торчит. Термос! Дим, ни поросенков, ни козлов термосами не кормят… Назад поплелся. Кастрюльку боком несет – пустая. Кто-то из нее что-то сожрал. Жалко, он дверь в сарай все время запирает. Подсмотреть бы.
– А как же! – Мне все это уже наскучило. – Он там коней златогривых прячет. От Конька-горбунка.
– А может, какого-нибудь козла, – серьезно предположил Алешка. – Мне этот дед все больше и больше нравится. Мне кажется, Дим, он много чего знает.
– Но мало чего скажет, – буркнул я.
– Боу-воу! Еще посмотрим. Дим! Он сарай не запер. Пошли!
– Коней златогривых красть?
– Козла посмотреть!
Ну, скажите, мне это надо? Но тем не менее я вылез из-под теплого одеяла и спустился вслед за Алешкой.
Нас охватила ночная прохлада, полная росы и свежести. Мы подбирались короткими перебежками к усадьбе деда Строганова.
Ночь была безлунная. Точнее, луна на небе где-то была, но пряталась за облаками. Вдали, наверное, в Пеньках, перелаивались от скуки или от страха бессонные собаки. Вдобавок загулял ветерок, зашелестел заморосивший дождик. Самая подходящая ночь, чтобы посмотреть в чужом сарае на какого-то козла. Которого зачем-то кормит дед Строганов термосами и кастрюльками.
Мы «шепотом» прошли мимо дачи тети Зины. Вдоль настоящего плетня. Этот плетень сплел ей дед Сороко из Пеньков, на старинный украинский манер. Тетя Зина надела на колья глиняные горшки и говорила, что она создала вокруг себя «элемент моей исторической родины – цветущей Украйны». И часто по вечерам Алешка, не отрываясь от бинокля, сообщал:
– Тетя Зина мечтает на своем заборе. Ее голова торчит среди горшков.
В окошках тети Зины теплился слабый свечной огонек одинокого ужина и отражался пригорюнившийся силуэт одинокой женщины. Скоро она выйдет из дома и, облокотясь на плетень, будет ждать, когда же проглянет луна и можно будет помечтать об Италии. Где вечно голубое небо и где семечки едят с помощью ножа и вилки. Мне непонятно: зачем она в своих мечтах променяла цветущую Украину на знойное небо Италии?..
Усадьбу деда Строганова отделял от дороги ветхий кривой штакетник. За ним поднимались высокие цветы на тонких ножках. Золотые шары, кажется. Мы раздвинули в заборе две гнилые планки, забрались в чащу цветов и затаились. Потому что дед опять вышел из дома и пошел к сараю. И опять что-то нес – на минутку луна справилась с облаками и сверкнула своим лучом, и в руках деда блеснула горлышко бутылки. Дед что-то ворчал, спотыкался и – наконец – скрылся в сарае. Мы тут же подобрались к его дверям и услышали голоса. Дед ворчливо возмущался:
– И куда теперя я их дену? И кто мне за их заплотит? Одного материала скоко пошло. На рынок ить не понесешь.
Ему кто-то насмешливо отвечал:
– А ты их по знакомым раздай. По родственникам. Пускай про запас возьмут. Такая штука каждому нужна. Раньше или позже.
– Энти штуки впрок никто не возьметь. Опять же – где их держать? Плати деньги!
– Заплачу. Картины продам – и заплачу.
– Кто ж их купит, срамье такое?
Алешка толкнул меня в бок.
– Ты, дед, темный человек. Ты, кроме гробов, ничего не умеешь.
– Да что ты понимаешь! Я был столяр высокой руки! Мебеля делал, какие стеллажи для музея изготовил! Ты меня с пути сбил! На гробы перекинул! Деньгой соблазнил! Плати за всю эту продукцию! Ить какие гроба! Строганы, лес выдержан – такой гроб кого хошь переживет. Кости в прах уйдут, а в мой гроб хоть нового клади!
Мы с Алешкой потихоньку холодели – наверное, не столько от прохладной погоды, сколько от разговора.
– Отстань, дед! Я спать хочу. У меня большие дела впереди.
Дед сказал ему в ответ нехорошее слово и хлопнул дверью – мы едва успели отскочить в тень, за угол сарая.
– Я все понял! – шепнул мне Алешка в ухо. – А ты?
Я понял, что я замерз и хочу спать. Поэтому ничего не ответил.
– Сейчас эта козлятина уснет, – горячо шептал мне в ухо Алешка, – и мы с тобой проникнем в сарай!
Я бы с большей пользой и удовольствием проник бы сейчас на наш теплый и уютный чердак, под ласковое одеяло.
– Ты промок? – спросил я Алешку.
– Сначала промок, а потом просох.
И вправду дождик кончился, небо стало чистым, засветились звезды вокруг луны. И настало тепло – все-таки лето, ночи еще теплые. Но спать все равно хотелось. Да разве с ним поспишь?
– Пошли! – сказал Алешка тихо, но решительно.
Мы приоткрыли дверь в сарай. Она не скрипнула, но где-то неподалеку зловеще каркнула бессонная ворона, а в Пеньках вдруг завыла бессонная собака. Ей ответили во всех дворах. В таких случаях нужно удирать с места события. Пока не поздно. Но было уже поздно…
Алешка скользнул в дверь, я – за ним, жаль, что не прихватил с собой дубинку. Чтобы отбиваться от кого-нибудь.
Мы вошли в сарай и замерли за порогом. Включили глаза и уши. Глаза ничего не увидели – в сарае было темнее, чем на улице, а уши ничего особенного не услышали, кроме заливистого храпа. Как папа говорит, с переборами.
Алешка включил фонарик. Мощный луч света пробежал по стенам и споткнулся. Он споткнулся… Весь сарай был уставлен… гробами. Они стояли друг на дружке до самой крыши. Молчаливые такие… Но не все. В одном открытом гробу лежал покойник и заливисто храпел. Мы оцепенели. За нами, за нашими спинами, опять взвыли собаки и закаркала ворона. Мы вылетели из сарая, как ласточки из своих норок. Только ласточки при этом весело чирикали, а мы молча икали от страха.
Опомнились мы только возле украинского плетня, над которым бледной луной между горшков вздыхало личико тети Зины.
– Вы откуда, Оболенские? – спросила она. – Или куда?
– Мы туда, – ответил Алешка. – Но с кладбища.
Тетя Зина не удивилась.
– Клад искали? – спросила она и задумчиво переложила свой голый локоть с одного горшка на другой. – Сегодня самое время – ночь на Ивана Купала.
– Это какая ночь? – отдыхиваясь, спросил Алешка. – Кто там кого купала? В пруду?
– Это особая ночь. – Тетя Зина сложила перед собой ладошки в замочек. – В эту ночь цветет папоротник. И открывает отважным парубкам заветные клады.
«В виде храпящих гробов, что ли?» – это я так подумал.
– А мы с Димой парубки? – спросил Алешка.
– Ты еще нет, ты еще хлопец. А Дима вполне парубок. Довольно симпатичный. В отца. – Она протяжно вздохнула.
Мы попрощались с тетей Зиной и пошли к нашей как бы даче. По дороге, при свете ночной луны Алешка все время на меня поглядывал. Как бы оценивал – сверху донизу. Потом он остановился и спросил:
– Дим, ты парубок? Отважный?
Я надулся в насмешку, выкинул пальцы веером:
– Я крутой!
– Я так и знал, Дим! – Алешка сделал вид, что он весь так и светится под луной от гордости за старшего брата. – Давай еще раз эти гробы посмотрим.
– Пересчитать хочешь?
– Я, Дим, хочу картины найти. Мне, Дим, обидно: древние люди старались-старались, рисовали-рисовали, а кто-то их спернул.
– Спер, – поправил я машинально. – И не ори на всю деревню. Вся деревня уже спит.
Но деревня спала не вся. Навстречу нам шел какой-то мужчина с ремнем в руке. Красиво сияющий в лунном светом.
– С кого начать? – спросил мужчина.
– С меня, пап, – покорно сказал Алешка. – Это я Димку уговорил. Мы ходили проведать тетю Зину. Она была весь вечер в грусти. Калокардин пила.
– Что она пила?
– Калокардин. Пап, она в тебя влюбилась. А я виноват?
– Валокордин, – сказал папа, сворачивая ремень. – Ваша мама тоже сейчас его пьет.
– Она тоже в тебя влюбилась? Ты у нас крутой.
Когда Алешка льстит открытым текстом, устоять невозможно. У него распахиваются до предела голубые мамины глаза и восклицательным знаком поднимается хохолок на макушке. Я помню, у нас в школе появился новый завуч – такая вся из себя Татьяна Семеновна. Она застала Алешку, когда он на фотографии нашего лысого директора старательно рисовал прическу. И начала на него орать. Алешка виновато посмотрел на нее и виновато сказал:
– Ну что вы так огорчаетесь? У вас-то такие красивые локоны.
Татьяна Семеновна обалдела. Растерялась. И сказала:
– Давай мы тебя сделаем старостой в классе.
– Мне нельзя, – сказал Алешка. – У меня поведение плохое.
– Мы его исправим!
– Лучше не надо. Папа говорит, что, если человека исправлять в одну сторону, он тогда портится в другую.