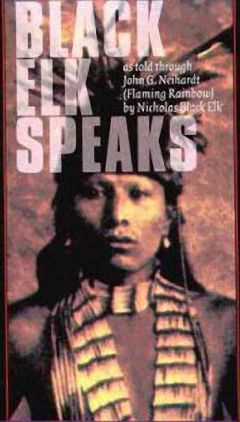Василий Большак - Проводник в бездну
— Допахкаетесь, окаянные, со своим фюлером вонючим!
На опустевшей площади перед клубом стояли несколько немцев: длинноногий офицер, трое солдат с автоматами на изготовку — и рядом с ними Приймак.
Поликарп подобострастно что-то говорил офицеру. Прищурив глаз, он показывал рукой в сторону Чернобаевского леса. Офицер кивал головой и доброжелательно хлопал Приймака по плечу.
— Гут! — и на прощание ткнул Поликарпу коробку сигарет. — Хайль Гитлер! — крикнул уже из кабины грузовика и высунул руку.
— Нехай[3], — согласился Приймак и оскалил зубы.
Когда исчезли машины, он повертел в цепких пальцах коробку: «Ишь ты, простые папиросы, а как красиво запечатаны. Культура — сразу видно. Это тебе не Советы». Спрятал коробку в карман ватного пиджака. В хате положит на видном месте, чтобы все, кто зайдёт, видели. Курить никому не даст, а показывать будет всем.
«Ну вот и новая власть явилась, — рассуждал Приймак. — Не сказали мне ни одного худого слова, не выругали, не обидели. Наоборот, коробочку дали — кури, Поликарп, знай нашу щедрость. И я буду помнить. Для кого они враги, фашисты, так сказать, черти болотные, а для меня свои, как бы выразиться, хлопцы. Каждый меряет на свой аршин. Они мне слов-но даже родня, потому что тоже против Советов.
В общем, говоря по-немецки, гут. Вот только гергочат не по-нашему. Так и мы научимся герготать. А то и на пальцах можно поговорить. Хрюкнул же мордастый мне, когда подсвинок бежал по улице. А я и показал на пальцах: «Пуляй». И тот пальнул. Значит, дошло до него… Жить можно при такой власти, подходящей для меня власти… А россказни тех, лесовиков, пусть кто-нибудь другой слушает. Я зря время терять не стану. Правда, умаялся весь, в поисках, где бы что прибрать к рукам, где что плохо лежит, но погодя всё утрясётся, и отдохну. Начну те гимнастёрки, когда люд пообносится, продавать втридорога. К тому же военное время плодит всяких людишек. Иному и оружие понадобится. Душу продаст за карабин… А лесопилку я всё-таки заведу. Денег поднакоплю… И — лесопилка…»
Мальчишки как раз встали из-за плетня, когда мимо брёл Приймак и думу сладкую про новую власть думал. Лишь теперь он вспомнил о своём картузе-блине, прикрыл им лысину.
— Чего глаза вытаращили, чертяки? — Приймак скороговоркой выругался, узнав Гришу и Митьку, стоящих за плетнём. — Вас где ни посеешь, там и уродит… Что вы здесь делаете, банда?
— Смотрим… Как памятник…
— И вам, сморчкам, стало жаль?..
Мальчишки, как по команде, произнесли вместе:
— А вам разве нет?
На его жилистой шее заходил кадык, словно Приймак держал в горле яблоко и хотел его проглотить нежеваным, а оно не глоталось. Так и не ответил мальчишкам, прищурил глаз и степенно, важно пошёл домой. Мальчишки лишь услышали знакомое, обычное:
— Так, так, так…
Гриша и Митька медленно подошли к клумбе. Недавно такие красивые и свежие цветы были сломаны и растоптаны грубыми солдатскими сапогами. Здесь же валялся памятник.
— Неужели вот так и будет лежать?
— Будет лежать…
— Может, спрятать?
— Спря-тать?
— А что? Придут наши — поставим снова!
Митька нахмурился: досадовал на себя — вишь, дружок додумался, а он…
— А сколько пудов в нём?
— Вдвоём не поднимем, — вздохнул Гриша. — Давай позовём кого-нибудь…
— Тут подвода нужна, — сказал Митька.
— Подвода у нас есть.
— Но ведь придётся везти мимо окон Приймака…
Понурились мальчишки… Действительно, перед самыми окнами. Без шума здесь не обойтись, колёса тарахтеть будут. А Приймак хотя и одним глазом смотрит, но глаз у него как у ястреба.
Только ведь безвыходных положений нет. Значит, надо что-то придумать…
ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Гриша мастерил дудочку маленькому Петьке, когда из леса послышалась стрельба. Гриша отложил дудочку, прислушался. Сухо трещали выстрелы из винтовок, и будто бы дважды или трижды глухо ухнули гранаты. За войну не впервые такое слышали таранивцы. Но всегда тревожились. Потому что знали: не в тире та стрельба, а по живым мишеням… Казалось, и недалеко, где-то на опушке.
— Что это? — забеспокоилась мать. Хотя она обращалась ко всем, Гриша понимал — его спрашивает. Потому что он в хате хозяин, мужчина.
— Стреляют.
Мать так посмотрела на сына, словно сказала: «Сама слышу, что стреляют. А кто стреляет, в кого стреляют?..»
— Вот здорово! — не удержался Гриша, словно ему были известны все подробности лесного боя.
— Ты будто что-то знаешь.
— Может, и знаю.
Баба Оришка, вроде бы и не очень прислушивающаяся к разговору, пожевала губами и не то спросила, не то подтвердила:
— Что, уже щиплют?
А Гриша усмехнулся на те незамысловатые слова: «уже щиплют». Кто кого шиплет — разве ж трудно догадаться?
Легли спать в тревоге. Спал или не спал Гриша, как вдруг услышал: стучатся в окно.
— Марина, слышишь? — отозвалась, охая, баба Оришка.
— Кто? — прижалась лицом к стеклу мать. И через минутку: — Сейчас, сейчас… — Побежала в сени. — Входите…
В сенях кто-то застонал. Мать возвратилась в хату не одна. В темноте зашелестела соломой, наверное, расстелила снопы.
— Вот здесь пока что положите, — прошептала.
Антон Яремченко (Гриша по голосу его сразу узнал) тоже шёпотом:
— В хате все свои?
— Свои, свои.
— Помнишь наш разговор, Марина?
Почему-то вздохнула мать, ответила, помолчав:
— Помню.
— Ну вот такое время настало. Помощь нужна твоя… Некоторых зацепило. Те, что на ногах, пошли. А этого подводой надо.
Чиркнул зажигалкой, прикурил цигарку.
— Сейчас я окна завешу. У нас ведь теперь «дорогой соседушка»…
Марина засветила каганец. Гриша немного приоткрыл глаза, чтобы увидеть, что делается в их хате. На земляном полу, на соломе, лежал какой-то мужчина с забинтованной головой и тихо стонал. На лавке сидел в задумчивости незнакомый дядько с русой бородой. И когда тот заговорил голосом Яремченко, Гриша чуть не вскрикнул.
— Кто-то в сельсовет перебрался? — равнодушно спросил Антон Степанович.
— Кто же ещё, как не тактакало Приймак…
— Приймак? — Яремченко подхватился с лавки, та даже заскрипела.
— Перебрался… И полколхоза к себе перетащил.
— Да-да… Положение наше неважное… Слушай: запряги своего Серого, надо отвезти товарища в надёжное место.
— Небезопасно сейчас, Антон. Налыгачи шныряют ночью, как борзые собаки, ещё наткнёмся на них.
— Надо что-то придумать…
Надолго воцарилась тишина в хате, даже раненый перестал стонать. Наверное, уснул, бедолага. Мерцала цигарка в руке Яремченко, который сел на лавку, склонил голову на руки.
Цигарка выпала из его рук. Мать быстренько наступила на искры, а цигарку кинула в печь. Прошептала:
— Подремай, Антон, подремай.
— Что ты сказала? — с трудом поднял голову.
— Говорю, подремай. Видно, устал…
— Э нет, голубка, дремать мне некогда… Что же делать будем?
— Я так думаю. Рано утром положим товарища на подводу, присыпим соломой… Я поеду в лес, как будто по дрова… Скажи только куда.
— Хорошо, пусть будет по-твоему… Ну, дружище, до завтра. — Он опустился на одно колено, пожал руку раненому и что-то сказал ему шёпотом… Поднялся, надел фуражку. — Проводи меня, Марина.
Мать вышла с Яремченко и вскоре вернулась.
— Гриша, не спишь?
— Не сплю, мама. А что?
— А что? — передразнила незлобиво. — Дядько Антон назвал вас молодцами. «В наши дни — это подвиг». Вот так сказал.
— О ком, мама?
— О тебе с Митькой да о деде Зубатом.
— За что?
— Ишь ты какой, родной матери не похвалился.
— О чём не похвалился?
— Как памятник спасали.
— И-и-и, — по привычке протянул Гриша. — Разве это тяжело?
Вспомнил Гриша, тогда они с Митькой весь день наблюдали за Приймаковым подворьем. Как только стемнело, Налыгачи выехали со двора. Они с Митькой побежали к деду Зубатому, с которым ещё засветло договорились о помощи.
— Понешла ворюг лихая година? — тихо прошепелявил старый.
— Понесла, — разом выдохнули мальчишки.
— Ну, боже, помоги, — так всю жизнь дед говорил перед дорогой, перед началом хорошей работы.
Ленивый вол шёл на удивление послушно. Ехали тихо по песку. Колёса не скрипели, дед Зубатый их загодя смазал. Подъехали к памятнику, лежащему на земле среди привянувших сальвий.
У Налыгачей было темно. Федора, оставаясь одна, без мужчин, закрывала ставни, запиралась на все засовы и терпеливо ожидала ночных добытчиков. Знала, всё равно хоть перед рассветом, но явятся, грязные, усталые и злые. Разгрузят наворованное и начнут стаканами глотать сивуху.
Постояли в тишине, прислушиваясь. Нигде ни звука. Дед Зубатый ближе подошёл к памятнику, выждал ещё минутку.