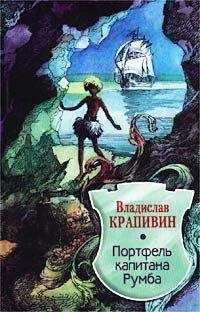Магдалина Сизова - «Из пламя и света»
Ехать в Тенгинский полк — это значит снова увидеть вершины дорогих сердцу кавказских гор. И может быть, удастся немного побродить с ружьем за спиной, и ночевать у костра, доедая засохший чурек да запивая его кахетинским из бурдюка, и, засыпая, глядеть на лучистые, мохнатые звезды, переливающиеся огнями над горбатыми предгорьями…
Но как горько, как горько расставаться с родными и друзьями!..
Что же больнее всего? Горько оставить бабушку, которая медленно оправлялась после удара. Бабушка теперь в каждую свободную минуту звала Мишеньку к себе и просила посидеть около, чтобы ей на него наглядеться.
И из редакции, и после прощальной пирушки, и после бала он спешил к ней и, подсев к ее кровати, рассказывал для ее развлечения все, что придет на ум, вглядываясь с тревогою в ее изменившееся лицо.
— Ах, бабушка, — говорил он, взяв ее здоровую руку в свою, — был бы у вас другой внук вместо меня — и жили бы вы спокойно!
— А мне, Мишенька, кроме тебя, никого не надо, — отвечала она.
Бабушка вызывала в нем мучительную жалость и желание что-то исправить и изменить, хотя ни того, ни другого он уже не мог сделать. Одна надежда на Акима: оставаясь с ней, он все-таки согреет ее старость.
Горько было сознавать, что «кружок шестнадцати», где так много часов прошло в пламенных спорах, в свободных речах, в дружеском обмене мнениями, перестанет существовать. Но как он был поражен, когда узнал, что главные его участники намереваются по доброй воле ехать вслед за ним туда же, где будет он.
Зато от бесстрастных лиц и фигур в расшитых золотом мундирах веяло на него ледяным холодом. И часто, уловив обращенный на него ледяной взгляд, он чувствовал, что обречен.
И оттого хотелось минутами безудержного, бездумного веселья, хотелось еще раз — в последний раз! — по-юному в кого-то влюбиться и с кем-то пронестись в упоительном вальсе! А потом с утра прибежать в редакторский кабинет Краевского и разбросать там все, что только возможно, разбросать, и привести в беспорядок, и опять с радостным волнением поговорить о своем романе, который, наконец, выходит в свет: первые экземпляры «Героя нашего времени» у него в руках!
Ему хотелось перед отъездом наглядеться на все, что было дорого, на всех, кого он любил, и он объезжал друзей и знакомых.
Смирнова-Россет, в доме которой точно всегда присутствовал образ Пушкина, встретила его строгим выговором, под которым скрывалась тревога.
— Ну что это?! Ну как вас после этого назвать?! Я только что писала Жуковскому и умоляла его похлопотать за вас, хотя ваш язык еще навлечет когда-нибудь на вашу голову новую беду. Везде только и говорят, что о вашей новой ссылке, все находят, что это несправедливо, и жалеют вас, а я на вас сержусь. Пожалели бы хоть Карамзиных, если бабушку вам не жаль! — Она улыбнулась и посмотрела на него: — Это я нарочно говорю; ведь я знаю, как вы к ней привязаны. Но Софи Карамзина, конечно, за вас горой стоит и огорчена до слез. Мы с ней недавно так и провели целый вечер вместе в разговорах о вас: она в слезах, а я в гневе.
— За что же в гневе? — спросил он.
— Не «за что», а «почему», — поправила она строго. — Потому, что теперь все мы обречены на беспокойные ночи в тревоге за вас. Потому, что вы, как совершенно верно говорит Краевский, сумасшедший и обязательно натворите на Кавказе каких-нибудь безумств. Ну, словом, мы вас любим и страдаем потому, что вас отнимают у Петербурга, — закончила она уже ласково, целуя его голову, склоненную к ее руке.
ГЛАВА 35
В день отъезда с раннего утра они занялись с Шан-Гиреем разборкой рукописей.
— А ведь все-таки порядочно написано, Аким, как ты скажешь? — спросил Лермонтов, перевязывая шнурком подобранные листы.
— Еще бы! Одних поэм тридцать, — с гордостью сказал Шан-Гирей, завязывая свою пачку. — Но скажи, пожалуйста, зачем ты опять подарил Краевскому пять стихотворений? Он рад, конечно, — еще бы! — но я не понимаю, почему ты не берешь с него гонорар? Ведь брал же Пушкин и даже назначал сам цену своим стихам, а ты что делаешь? Раздариваешь издателям, которые твоим именем привлекают подписчиков!
— Андрей Александрович на меня, как на живца, ловит, — усмехнулся Лермонтов. — На «Думу» скольких поймал! А пришлось — и Соллогуба напечатал…
А что до Пушкина, так у него, Аким, семья была, да еще жена-красавица, да родители — и все им кормились. А мне на что деньги? Ты забыл слова Гёте: «Песня — вот лучшая награда для певца», а я этого никогда не забываю. Странно, — продолжал он, окидывая взглядом все, что они разобрали, — когда стихи закончены и особенно если они напечатаны, они уже начинают жить своей собственной жизнью, хотя и связаны с самой сердцевиной твоего существа. Когда я писал «Мцыри» — хотя это слово, в сущности, здесь не годится, потому что я его не писал, а видел, пел, кричал, носил в себе, становился им, — мне казалось, я точно исчезал в нем! Я исстрадался за него, за этого беднягу, он меня измучил, как живое существо, как мой товарищ, друг и современник. И я думал тогда часто, что так работать больше не смогу и что никакой другой образ не будет так больше мучить меня.
— А «Демон»?
— Да, «Демон»! Вот о нем-то я и хочу тебе сказать. Белинский прав, говоря, что это еще незрелая вещь.
— Белинский всем говорит, что это одно из лучших созданий русской поэзии! — горячо возразил Шан-Гирей.
— «Демон» еще не кончен, — твердо сказал Лермонтов. — Но я не могу отделить его от себя или себя от него. Он мой главный учитель, который сопутствует мне всю жизнь и настоятельно, постоянно требует от меня все новых и новых улучшений и перемен. Не помню, кто сказал, кажется Бальзак, что писатель — добровольный носильщик: только снимет с себя одну ношу — и уж берет другую.
Так что «Демона», Аким, мы пока отложим. Печатать его целиком, конечно, еще нельзя. Вот когда вернусь с его настоящей родины, с Кавказа, начну его заканчивать, если только мне дадут… — он остановился и закончил просто: — Еще хоть немножко пожить.
— Что за мысли, Мишель, зачем ты это говоришь?!
— Затем, что это правда, Аким. С бабушкой об этом не поговоришь, а с тобой можно и нужно.
— Нет, нет, не думай об этом!
— Ну, пожелай мне, чтобы я в этом ошибся, — тихо проговорил Лермонтов, глядя в глаза Шан-Гирея долгим взглядом.
Шан-Гирей посмотрел в эти печальные темные глаза и молча обнял его.
* * *Бабушка долго плакала, припав к его плечу. Она едва держалась на ногах, и он уговорил ее лечь, обещав, пока не подадут лошадей, посидеть около нее.
Но Ваня, одетый в дальнюю дорогу, уже докладывал:
— Михаил Юрьич, лошади поданы.
В последний раз он прижал к своим губам морщинистую бабушкину руку, в последний раз повторил ей слова утешения и надежды, взял слово с Шан-Гирея не оставлять ее и, разняв старческие слабые руки, обнимавшие его, сел в дорожную кибитку.
ГЛАВА 36
Был нежно-золотой вечер любимого им времени в Петербурге — начала весны, преддверия белых ночей. Легкие с розоватыми краями тучки медленно проплывали в небе.
Его ждали у Карамзиных, с которыми он еще не простился.
В этот последний вечер сильнее, чем когда-либо, он чувствовал, как дорог ему этот гостеприимный дом, как печально сказать ему «прощай».
Сколько бывало в нем выдающихся, замечательных людей! Глинка здесь играл свои произведения. Когда-то, всего три-четыре года тому назад, бывал здесь Пушкин… Здесь рассказывал блистательный Брюллов о солнце и о море Италии. Здесь встречали с восторженным сочувствием и его стихи и переживали вместе с ним волнения и радости его судьбы.
Он совсем не ожидал, что в этот вечер на его проводы соберется столько народу.
Глаза Софи Карамзиной были заплаканы.
Его окружили друзья, и для него заиграл Виельгорский, музыку которого он всегда любил. Его охватило глубокое волнение, и, чтобы скрыть его, он отошел к наполовину открытому окну и слушал Виельгорского, глядя на Летний сад, еще не одевшийся зеленью, на проплывавшие над ним легкие облака. Но когда женщина в легком светлом платье подошла к роялю и запела его стихи, кем-то уже положенные на музыку, он не мог больше сдерживать себя, и слезы радости и грусти, умиления и благодарности наполнили его глаза.
После ее пения все стали просить, чтобы он прочел на прощание что-нибудь свое — то, чего еще никто не знал.
Из кармана своего скромного тенгинского мундира он вынул листок бумаги.
— Этого уже действительно никто не знает, потому что я написал это только сейчас, здесь, слушая музыку Виельгорского.
«Тучки небесные, вечные странники», — начал он, но вдруг умолк и, быстро свернув вчетверо листок, вложил его в худенькую руку Софи: — Я плохо прочту. Но я буду думать, что я все еще с вами, здесь, — сказал он, — если вы прочитаете это, когда я буду уже на Московской дороге.
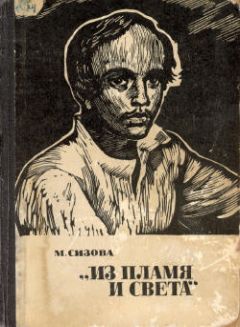
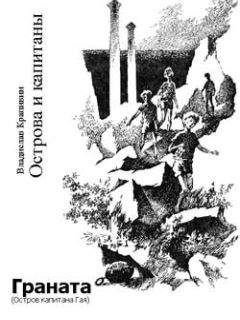
![Владислав Крапивин - Валькины друзья и паруса [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/209202/209202.jpg)