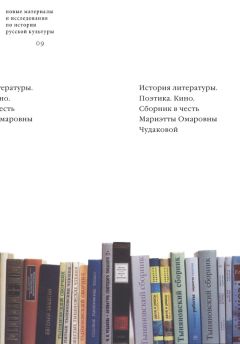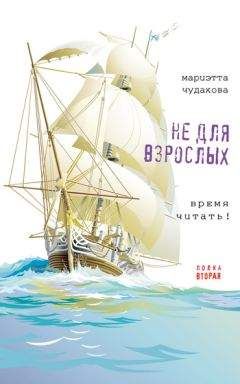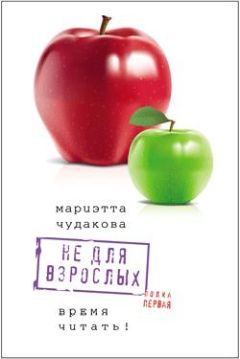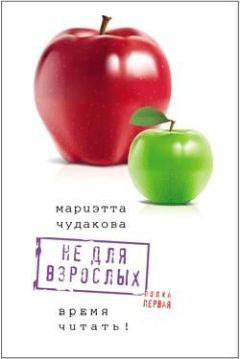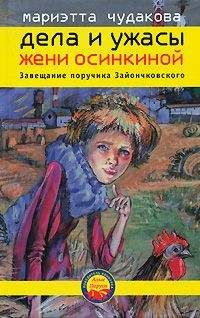Мариэтта Чудакова - Егор. Биографический роман. Книжка для смышленых людей от десяти до шестнадцати лет
– Ишь, – скажет, – барин какой! Даже не смотрит назад – есть там кто с его пальто в руках или нет! Привык, чтоб холуи вокруг него суетились…
Так подумает тот, для кого счет времени никогда не шел по минутам. Тем более по секундам. А Гайдару до зарезу нужны были те секунды, которые он выгадывал, протягивая руки назад и не прерывая разговора.
Как он работал в те годы, я знаю от Леонида Гозмана – он был тогда советником вице-премьера. Достаточно будет одной фразы:
– Я приходил к нему в кабинет с докладом в 4 часа ночи, а в 8 утра у него уже было назначено заседание правительства.
Через несколько лет Гайдар будет вспоминать о главной проблеме «адаптации к работе в правительстве, особенно в условиях экстремального кризиса, – это радикальное изменение протяженности времени. Ученый планирует свою работу в размеренности лет, месяцев, недель. Советник измеряет время в часах и днях. Руководитель правительства вынужден оперировать временем в секундах, в лучшем случае в минутах… В течение получаса провести важное совещание, за три минуты успеть связаться с Минфином – дать распоряжение, за две минуты пообедать, еще через одну минуту выскочить из кабинета, чтобы мчаться выступать в Верховный совет – вот это норма, и такая круговерть беспрерывно в течение дня, с раннего утра до поздней ночи».
Нарушено привычное общение с друзьями: «Нельзя же пригласить близкого друга для общения в два тридцать пять ночи, уделив ему семь минут. Так просто не делается».
Круг общения неизбежно сжимается – «до тех, с кем видишься только по делу».
Мама Егора Гайдара Ариадна Павловна рассказывает:
– Когда в правительстве он сутками работал, он ночью нам звонил или даже заезжал. Уже не мог смотреть – глаза стеклянные. Но все-таки заезжал: как у вас дела? А отец ему: еще вы не сделали то, вы еще должны сделать это… Егор только смотрит и повторяет: «Отец, я работаю
18 часов, я не могу больше. Больше не могу».
.. На самом деле он работал больше 18 часов в сутки – просто не хотел пугать маму.
Сам он вспоминал: «Времени не хватает даже на самых близких людей. За весь 1992 год, наверное, всего раза три успел выбраться к родителям, и каждый раз уже под утро и смертельно уставший».
Он был совсем необычный высший чиновник – например, ненавидел то, что на чиновничьем языке носит название «протокол». Это – некие обязательные действия, от которых никакого прямого проку нет. У каждого лица государственного масштаба – свои.
«Когда смотришь по телевизору, как какой-нибудь государственный деятель обходит почетный караул, подписывает бумаги, поднимает бокал шампанского на званом обеде, можно подумать, что работка в общем-то не пыльная. Может быть, оно и так, когда государственная машина работает спокойно и размеренно. А в 1991—
1992 годах, когда столько всего было нужно успеть, становилось безумно жалко каждой потерянной минуты. Всякий раз, когда выяснялось, что надо ехать кого-то встречать, провожать, принимать и всегда в самое неподходящее время – испытывал бессильное бешенство» (Е. Гайдар, 1996).
.. А как насчет детей-старичков? Наверно, кому-то все-таки интересно – удалось ли им вернуть потерянное время?
К счастью, они сумели друг друга найти: опознали – одна старушка играла в мячик, другая – в классики… А один старичок вообще прицепился сзади к трамваю! Сразу стало ясно, что это за старичок.
И вот они все вместе отправились в лес – искать домик, где волшебники стерегли украденное время.
«Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и – раз, два, три – закрутил их обратно, справа налево».
Ну, и так далее. Все грамотные, прочитаете эту замечательную сказку сами. Приведу только конец:
«Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули потерянное напрасно время.
Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет».
27. В роли Филиппа Филипповича
В 1995 году в разговоре с литератором А. Бориным Егор Гайдар сравнивал работу премьер-министра в те критические годы с работой… продавца. Не вообще продавца, с которым, скажем, мои читатели встречаются в магазинах сегодня, а продавца именно в последние советские десятилетия:
«Выдержать напор, натиск разных чужих интересов бывает невероятно трудно. Я бы сказал, что премьер-министр, например, в определенном смысле похож на продавца колбасного магазина в эпоху советского дефицита. Тот знает, что всем колбасы не хватит, из очереди ему кричат: “В одни руки больше килограмма не отпускайте”, – и он должен решать, кому сколько давать. Так и к премьеру идет колоссальный поток просьб и запросов. Произошло землетрясение, нужны на это деньги, останавливается атомная электростанция, не выплачивают зарплату в школах Бурятии… Работа состоит в том, чтобы определять, что из этого является реальной проблемой, но не первоочередной, а что вообще фиктивной…»
…Тем из вас, кто уже успел вплотную познакомиться с Михаилом Булгаковым, эти строки непременно напомнят некоторые его страницы.
Самого-то Егора Гайдара, как и его одноклассников, знакомила с Булгаковым еще в 9-м классе их любимая учительница Ирина Данииловна. И он наверняка иногда смотрел на себя со стороны сквозь призму булгаковских романов – окрашенных непревзойденным юмором.
И, конечно, он помнил «Записки покойника» – роман о прославленном московском Независимом театре, помнил и булгаковское описание администратора театра Филиппа Филипповича…
«…Говорил ли мне кто-то или приснилось мне, что будто бы Юлий Кесарь обладал способностью делать несколько разных дел одновременно, например, читать что-либо и слушать кого-либо.
Свидетельствую здесь, что Юлий Кесарь растерялся бы самим жалким образом, если бы его посадили на место Филиппа Филипповича.
…Филипп Филиппович, полный блондин с приятным круглым лицом, с необыкновенно живыми глазами, на дне которых покоилась не видная никому грусть, – затаенная, по-видимому вечная, неизлечимая, – сидел за барьером в углу, чрезвычайно уютном…Филипп Филиппович был огражден от внешнего мира барьером, и в любой час дня на этом барьере лежали животами люди в самых разнообразных одеждах. Здесь перед Филиппом Филипповичем проходила вся страна, это можно сказать с уверенностью; здесь перед ним были представители всех классов, групп, прослоек, убеждений, пола, возраста…
Но кто бы ни шел к барьеру, все, за редчайшими исключениями, имели вид льстивый, улыбались заискивающе. Все пришедшие просили у Филиппа Филипповича, все зависели от его ответа» (М. Булгаков, «Записки покойника»).
«Все зависели от его ответа…» – именно так и обстояло дело в тот год, когда денег у государства почти что вовсе не было, а в долг уже не больно-то давали. Тот, у кого просят денег, всегда смотрит – а сможет ли должник отдать? Давать стали, когда увидели, что Россия выруливает наконец на тот путь, по которому давно идут преуспевающие страны. И значит, можно надеяться, что станет скоро платежеспособной.
«Три телефона звенели, не умолкая никогда, и иногда оглашали грохотом кабинетик сразу все три. Филиппа Филипповича это нисколько не смущало. Правой он брал трубку правого телефона, прижимал ее к левому уху, а освободив правую, ею брал одну из протягиваемых ему записок, начиная говорить сразу с тремя – в левый, в правый телефон, потом с посетителем, потом опять в левый, в правый, с посетителем. В правый, с посетителем, в левый, левый, правый, правый.
.. У него просили билетов в самой разнообразной форме. Были такие, которые говорили, что приехали из Иркутска и уезжают ночью и не могут уехать, не посмотрев «Бесприданницы»…
Кто-то говорил:
– В любую цену, цена мне безразлична…
– Зная Ивана Васильевича 28 лет, – вдруг шамкала какая-то старуха, у которой моль выела на берете дыру, – я уверена, что он не откажет мне…
– Дам постоять, – внезапно вдруг говорил Филипп Филиппович и, не ожидая дальнейших слов ошеломленной старухи, протягивал ей какой-то кусочек бумаги.
– Нас восемь человек, – начинал какой-то крепыш, и опять-таки дальнейшие слова застревали у него в устах, ибо Филя уже говорил:
– На свободные!
– Я от Арнольда Арнольдовича, – начинал какой-то молодой человек, одетый с претензией на роскошь.
«Дам постоять», – мысленно подсказывал я и не угадывал.
– Ничего не могу-с, – внезапно отвечал Филя, один только раз скользнув глазом по лицу молодого человека.
– Но Арнольд…
– Не могу-с!
И молодой человек исчезал, словно проваливался сквозь землю» (М. Булгаков, «Записки покойника»).
В тот 1992 год перед Егором Гайдаром примерно таким вот образом проходила вся страна – хоть ее представители и не лежали животом на барьере, а сидели в приемной, звонили по телефону, писали слезные письма или действовали через депутатов.