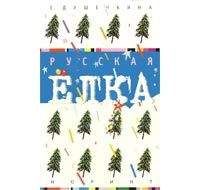Нина Емельянова - Родники
Я посмотрела с завистью и дёрнула дядю Петра за рукав.
— Это мы сейчас устроим. Мальчик! — подозвал он худенького мальчика в разорванной кацавейке.
— Возьми-ка вот девочку, прокати.
— А ну её! — ответил мальчишка, но тон у него был неуверенный.
— Нет, брат, так не годится. Давай заведём дружбу: вы прокатитесь вместе, а потом ты пойдёшь с нами птиц смотреть. Я и тебе птичку куплю.
Мальчик насупился и молчал.
— Экой ты какой недоверчивый! Думаешь, обману? Я не люблю обманывать.
— Ну, ладно… Пойдём, что ли, — подумав ещё, сказал он мне с неохотой.
Мы поднялись с ним по бульвару, таща за собой плохонькие санки. Он недружелюбно взглядывал на меня:
— Испугаешься — за плечи мои держись, а за шею не хватайся. И не ори.
Мы съехали по самой крутизне. Санки далеко откатились за палатки.
— Ещё поедем! — сказала я.
— Ладно, как дяденька скажет, — снисходительно ответил мальчик.
Но дядя Пётр объявил:
— Хорошенького понемножку. Пойдёмте на рынок, а там видно будет.
Мальчик взял санки, и мы пошли.
Первый, кто нам встретился, был высокий худой человек с чёрным щенком на руках. Он шёл, поглаживая висячие шёлковые ушки щенка, и повторял:
— Покупайте, господа, толковая будет собачка.
Мальчик сказал:
— Это охотничья. Видишь, как она носом нюхает?
Не успели мы отвести глаз от собачки, как перед нами открылся проход к ряду маленьких лавочек; около них ходили продавцы. В руках они держали длинные удочки, красивые зелёные поплавки и коробочки с крючками. Покупатели, наклонясь над коробочками, выбирали крючки, грузила и поплавки. Посматривая направо и налево, я незаметно для себя очутилась у одной из лавочек и заглянула в открытую дверь.
В окно её светило солнце, и лучи его падали на широкий прилавок. На прилавке стояли стеклянные банки с водой, насквозь прозрачные в солнечных лучах, в них снизу вверх из жёлтого песка росли длинные светло-зелёные листья, и между ними проплывали красные и золотистые рыбки.
Я вошла в лавочку и остановилась, рассматривая рыбок. Особенно понравилось мне, как продавец ловил их маленьким черпачком, перекладывал в баночку с водой и отдавал покупателю.
— Достань мне вот того рысака, — указал дяденька с бородой и весёлыми, насмешливыми глазами на полосатенькую, очень быструю рыбку.
— А ну-ка, дай я сам его поймаю! — И взял черпачок из рук продавца.
Рыбка мелькнула, как синий флажок. И каждый раз, как черпачок приближался к ней, она быстрой синей чёрточкой сверкала вверх, вниз, вбок и уходила.
— Верно ты угадал: это рысак настоящий, — сказал хозяин, — а у тебя сноровки мало.
Он взял черпачок, опустил его в воду, дал рыбке успокоиться, потом, когда она тихо стала подниматься вверх, легко подвёл черпачок снизу и поддел рыбку.
— На всё, брат, надобно уменье, — сказал он, опуская рыбку в подставленную покупателем баночку.
И там она заметалась от стенки к стенке.
— Дяденька, вон она где! — услышала я голос мальчика, который меня прокатил на санках.
— Куда же ты девалась? Вот тебе дяденька задаст!
Они уже, видно, подружились. Дядя Пётр купил ему крючок на тоненькой леске, и мальчик не отходил от него.
— Дяденька, пойдёмте того щегла поглядим, — попросил он.
Мы все вместе пошли смотреть «того щегла». Щегол был пёстрый, весёлый. Он прыгал в узкой клеточке, где, кроме него, сидели ещё две серые птички с помятыми перышками на головках.
— Это чечётки, — сказал мальчик, — они смирные. А вот это канарейка.
Он шёл с нами и не напоминал, что дядя Пётр обещал ему купить птичку.
— Ну, канарейка — птица неинтересная, — ответил дядя Пётр.
— Птица эта, брат Митюшка, не наших лесов. Хочешь щегла?
Мальчик покраснел от смущения и кивнул головой. Он и так смотрел на этого щегла, не отводя глаз.
Дядя Пётр спросил продавца, сколько стоит щегол, и уж достал кошелёк.
— Гривенник, — ответил продавец, — да ещё клетка…
Дядя Пётр положил монеты на прилавок, взял клетку со щеглом и повернулся…
К прилавку шёл высокий человек в барашковой шапке, с небольшой бородкой, в пенсне, из-за которого пристально смотрели серьезные глаза. Он остановился в двух шагах от нас.
— Дядя Пётр, — спросила я, — а мне ты купишь чечёточку?
Дядя Пётр не ответил. Он всё смотрел на подошедшего человека. Потом наклонился к нам, взял меня за плечи, повернул и сказал тихо:
— Посмотри и запомни. Я потом расскажу, кто это…
Когда мы отошли с клетками, где в одной сидел щегол и в другой две чечётки, он сказал нам:
— Это писатель Чехов, гордость русского народа. Он написал много хороших книг. Придём домой, попроси отца прочитать тебе про Каштанку.
Мы пошли домой; мальчик тоже шёл с нами. Он держал клетку со щеглом перед самым своим носом и всё не мог на него налюбоваться. Дядя Пётр взял у мальчика санки и понёс их сам. Уже долго шли мы, а мальчик всё не отставал.
— Чего ж ты нас провожаешь? — спросил дядя Пётр. — Мы и сами дойдём.
— Я не провожаю, я домой иду.
— А где твой дом?
— В Кожевниках.
— Вот что! — дядя посмотрел на него. — Отец-то где работает?
— На Цинделевской фабрике.
Оказалось, мальчик жил близко от нас.
Он сказал, что знает наш двор, всегда ходит мимо.
— Можно, я приду, когда вы будете выпускать чечёток? — спросил он дядю Петра.
— Приходи, — ответил дядя Пётр.
Через год или больше с того дня, как мы ходили на Трубную за птичками, отец, придя домой, сказал глухо:
— Умер Чехов.
И мать заплакала. Меня взяли на похороны Чехова. По улицам отовсюду шли люди, тысячи людей.
— Иди, иди, — говорил отец, — вот сколько людей любили Чехова, читали то, что он писал. И ты будешь читать…
— «Каштанку»?
— Не только «Каштанку», а много прекрасных его рассказов о том, как живут люди.
Ссора
Когда утреннее солнце светит в окна и на синем небе вырезывается неподвижная глянцевая листва единственного тополя, растущего во дворе перед флигелем, а на крашеном полу лежат светлые квадраты, невозможно представить себе, что такой ясный летний день может омрачиться.
Кажется, что всегда будет так ясно, спокойно, хорошо, будешь целый день бегать с Дуняшей во дворе и Чок, принюхиваясь к нашим следам, будет отыскивать нас в маленькой сторожке у Данилы-дворника или в тёмном чулане флигеля, где мы прячемся от него.
В такой день мама надела на меня розовое лёгкое платьице, которое раньше считалось новым, но потом, повисев долгое время в шкафу, надетое только раза два за всё время, почему-то стало называться старым, и отпустила гулять.
— Но ты не пачкайся, — сказала она, повёртывая меня к себе лицом и поправляя на мне хорошенький кружевной воротничок, — мы с тобой пойдём сегодня в Нескучный сад.
Какая же это была радость — идти гулять в Нескучный сад, где так много толстых, больших деревьев: лип, клёнов, дубов, берёз, не то что один тополь у нашего окна!
— Почему ты говоришь, платье стало старым? — бездумно спросила я, рассматривая лёгкие оборочки на рукаве.
— Потому что ты выросла, — ответила мама, — и пришлось его выпускать внизу. И то вон оно какое короткое!
— А тебе папа сказал, что ты бережёшь — бережёшь, пока я вырасту из платья. Надо, чтобы я носила сразу новое.
— Папа не так сказал, не говори, если не знаешь, — спокойным, ровным голосом ответила мама.
Я по опыту знала, что это ровное спокойствие может замениться строгим окриком, если я не «перестану». Но что-то меня так и подмывало, я сказала:
— А я знаю, что папа так говорил: надо носить, пока я не выросла.
— Выросла, а ума не вынесла, — сказала мама тем же спокойным голосом, садясь на стул у окна и этим как будто меняя своё намерение идти со мною в Нескучный. Я продолжала стоять против неё.
— Всегда так бывает, что пока другого платья тебе не сшили, то прежнее надо беречь, как новое. Вот теперь я сшила тебе синенькое, новое, а это будешь носить.
— Я не буду его носить, — неожиданно для себя сказала я.
— Я из него выросла.
— Это ещё что? — нахмурилась мама. — Повтори, что ты сказала!
Повторять в таких случаях как раз не следовало: если повторяешь, — значит, упрямишься. Папа не раз объяснял мне это. Но я повторила, чувствуя, как обрывается то хорошее, любовное, что связывает меня с матерью.
— Не буду я его носить, не хочу и не буду! — И, дёрнув платье на себе, добавила: — Оно плохое.
— Значит, я старалась, шила, а тебе не нравится?
Вот сейчас голос и всё выражение лица мамы такое, что мне так и хочется подойти к ней…
— Не нравится! — упрямо сказала я.
— Ну, так вот же, — с досадой сказала мать, — в Нескучный мы не пойдём. Будешь сидеть дома.
Как это все случилось? Как могло быть, что десять минут назад я стоила на этом же месте, одетая в розовое, любимое мною платьице, не замечая, что оно коротко, и радовалась, что мы пойдём в Нескучный? И вот всё стоит так же, на тех местах: стол, фикус у окна, так же лежат светлые квадраты солнечного света на полу, вырезываются на синем небе листья тополя. Что же изменилось? Почему и уже не могу любить это милое платьице и доверчиво говорить с такой любимой только что мамой?