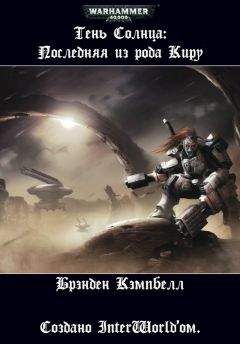Иван Полуянов - Дочь солдата
Тут дядя поперхнулся. Леня «шил»! Леня разевал рот, будто рыба, выброшенная на берег, а из горла шел один писк. Потерял парнишка дар речи, не иначе. «Ш-шука!» — наконец прошептал он, почему-то шепелявя. И рывком выкинул из лунки окуня.
— Я думал, щука. Вот взял! А упирался-то как!
— К-гм… к-гм… Окунишка ничего себе. Прямо «лапоть».
На щеках дяди вспыхнул румянец. Он еще больше нахохлился, без устали подергивал удилищем, менял блесны.
— Не «стучит», — с самым серьезным видом жаловался он Верке. — На мормышку, что ли, попробовать? Обратно же, мотыля нет. Не везет… нет!
Верка так и прыснула со смеху.
— Смешной вы, дядечка! Из-за чего переживаете-то?
— Молчи, коза… — обиделся дядя.
На него было больно смотреть. Он вытягивал худую, с острым кадыком шею, чертыхался про себя, и выражение покорности злосчастной рыбачьей судьбе не сходило с его лица. Шапка, за которую он хватался при поклевках у Лени, сидела на его белых волосах задом наперед. В азарте ему было не до шапки. Дядя ревновал, что Леня удит удачливей его, опытного рыболова.
— Разрешите мне. Один раз. Наудачу, дядечка.
Дядя, горюя, передал Верке пробковую рукоять удочки.
Верка сперва высунула язычок, потом прикусила его, наклонила голову набок и взмахнула раз-другой удилищем.
И тяжелая из-за свинцового груза блесна стала еще тяжелей, а удочку как-то медленно повлекло вниз, в курящуюся паром лунку.
— А-а! — завопила Верка. Скоро полосатый, огромный — настоящий кит! — окунь, разевая жабры, забил хвостом у лунки.
— Однако, — скорбно промолвил дядя, принимая от Верки удочку. — Однако, я говорю!
* * *Берега озера в густой заросли тальника, черемухи. Кое-где белели березы, сквозь пышный иней зеленели елки.
В кустах зайцы протоптали тропы, набродили куропатки. Их лапки к зиме обрастают перьями, ходят куропатки по снегу, словно на лыжах. Белые-белые они, только бровки красные да в хвосте по нескольку черных перышек.
Верка, лазая на лыжах по сугробам, подняла куропаток. Они взлетели из-под самых ног в вихре снежной пыли. Перепархивали по ольхам и березам стайки чечеток, на рябине сидели румяные, как яблоко, снегири…
В кустах, где из Зимогора берет начало Та лица, она обнаружила странную лыжню. Лыжня укатана, блестела на солнце. Она вела к скотным дворам, чьи крыши виднелись невдалеке из-за вершин деревьев. Лыжня пряма, будто вычерчена по линейке, и утыкана ветками. На снегу написаны цифры: 1, 2, 3… Для чего бы это? А, вот что — кто-то измерял длину лыжни!
— Для кросса…
Нет. Разве зайцы здесь кроссом носятся — в такой чаще!
— Наверно, не у меня одной есть тайна… — И ей стало грустно.
Она вернулась на озеро.
Лунок, лунок-то на нем!..
День клонился к вечеру, и дядя подал команду сматывать удочки. Он будто помолодел, был оживлен, разговорчив. Вез конца рассказывал, как они с Леней совершенно случайно наткнулись на окуневую яму, открыли клев, по словам дяди, какой ему и не снился.
По дороге домой Леня неожиданно спросил:
— Николай Иванович, а вода всегда течет вниз?
— Да…
Леня волок за веревочку пешню, дядя нес нагруженный рыбой ящик. Пешня позванивала, оставляла на дороге бороздку.
— А вот, Николай Иванович, если воду налить на столешницу, куда она потечет?
Дядя опустил ящик с рыбой на дорогу и стал потирать подбородок.
— Вода может самостоятельно, без насоса бежать? — краснел Леня, конфузился, но продолжал нелепые расспросы.
— Конечно, — ответил дядя, соображая, что бы все это могло означать.
— Сама течет?
— Ну да… — дядя подхватил на ремень свой ящик. — Самотеком. На этом принципе, к примеру, действовали акведуки, то есть водопроводы, в древнем Риме. Город получал воду с гор.
— Рим, — протянул Леня. — А я-то плановал… Самотек-то, получается, не мой!
Он, что-то обескураженно шепча, отстал.
— Самотек… вот тебе и самотек! — слышалось сзади, и дядя оглядывался на него.
Определенно, Леня помешался после уженья блесной в лунке.
— У тебя голова болит? — спросила у него Верка.
— А тебе что? Ты все равно ничего не понимаешь, — отмахнулся Леня.
Он не ошибся: Верка действительно ничего не понимала. Пожав плечами, она побежала вперед на лыжах.
Глава VI. В телятнике
Она обедает молчком. В кринке — душистое, томленое в печи молоко. Коричневое, как кофе. С хрустящей пенкой. Что за пенка! Слюнки текут…
Но она отважно не трогает ее, наливает молока чуть-чуть в стакан. Пьет, будто сквозь зубы цедит. Крохотными глотками. Двумя пальцами щиплет хлеб.
Вид у Верки убитый.
— Подралась? Молчи, по ушам вижу. Поколотили? С чем и поздравляю. — Тетя скрещивает руки на груди. Тетя дает бой. — Удивляюсь! Ты сама подумай, это прилично, что воспитанная девочка дерется.
Верка отвергает нападки расслабленно, жалобным голоском, который — на практике проверено — действует на тетю без осечек.
— Что вы… что вы, тетя! Я забыла, как дерутся.
С печи свешивается растрепанная голова Домны.
— И-их… — бабка зевает и крестит рот.
У Верки ресницы опущены, щекочут щеки. Губы горько изогнуты подковкой.
Тетя целует ее в лоб.
— Так и есть, — заключает тетя. — Температура. Насморк! Доигралась!
— Что вы… что вы! — Верка сожалеет, что нет у ней ни температуры, ни насморка. Ради пущей убедительности дышит носом. — Видите?
— Ничего, на ночь получишь горчичники к пяткам. Не повредит.
— Спасибо, — потупилась Верка. — И к пяткам… и к чашечке…
Эта невиданная покладистость сбивает тетю с боевой позиции.
— Да что с тобой, в конце концов?
Слезы у Верки наготове. Горючие слезы. Длинные слезы — по обеим щекам.
— Да-а… Отстающая я, в-вот. Девочки на фермы ходят, одна я с боку припеку.
Тетя, встрепенувшись, скрещивает руки на груди.
— Не позволю. Прекрати сейчас же рыдания. А если коровы тебя затопчут? Бык забодает?
Верка отодвигает стул. Чмокает тетю в щеку— благодарит за обед.
И без промедления садится в горнице за уроки.
Она торопится. Дела ждут!
За дверью говорила Домна. Верка повернулась со стулом, стиснула кулачки и показала язык. У-у, вредная старуха — белые глаза!
— Не пускай. Животноводы выезжают на ребятишках, премии получают. Разве старое время — малолеток работой морить? В школу бегай, на фермы бегай… ну, роздыху малым-то не дают. Ведь я батрачила, мыкала горе-гореванное. С твоим Николай Иванычем у Фомы-лавочника скот пасла, на полях хребет гнула. Сладко ли было, есть что вспомнить. Теперь к погоде кажинная косточка ноет, мозжит — поминки справляет по прежней кабале. А угодить чужим… и-их! Куда там! И ступишь, бывало, не так, и посмотришь не так. Все чужим-то не ладно. Николай-от был самонравный, характерный. Бывало, набычится, глазенки так и сверкают… Не вынес, ушел в Питер — бурлачить, как тогда называли. До весны ни у кого у мужиков своего хлеба не хватало, вот и уходили в Питер да в Москву на заработки. Звал он меня с собой, да я забоялась чужой-то стороны, после и каялась, да поздно…
Бабка была батрачкой? Верка в недоумении.
Наверно, что-нибудь путает. Врет, вот и все.
Верка спрятала учебники и тетради в портфель. Пощелкала языком, крутясь на пятке.
Но нет… Это потом. Хорошее настроение нельзя выказывать.
Она одергивает передник. И с понурой головой появляется на кухне. Молчит, чувствуя на себе взгляды тети и бабки.
— Что накуксилась, кумушка? — тетя не вынесла молчания.
— Тетя, я очень прошу, — канючит Верка, — сшейте мне халат.
— Разумеется, сошью. А на что тебе халат?
— А на ферму. Все девочки ходят на ферму в халатах.
Брови у тети из-под очков подпрыгивают на лоб. Губы трогает довольная усмешка.
— Упрямица! Настоит на своем… настоит!
— Тетя, — Верка водит пальцем по стене.
— Чего еще? — настораживается Екатерина Кузьминична.
— Можно, я стану ручку машины крутить? Ты шей, а я буду крутить. Ладно?
Отправляясь «налегке» в деревню, тетя не забыла прихватить швейную машину.
— Ну и лиса… — качает головой тетя.
Бабка зевает и крестит рот.
— И-и-и, прости, господи, нас, грешных!
* * *Длинное помещение телятника приземисто. Оно словно сползает и тянет за собой сугробы в Талицу. Бурлит незамерзающая речушка, скачет с камушка на камушек. Вода светлая, прозрачная, на дне желтый песок, какой-то темный мох. Сделаны сходни брать воду. Снег во дворе телятника заледенел, желт от навоза и притрушен ломкой ветошью сена. По поленнице дров прыгают сороки, и ветер задувает им хвосты на спину.
Верка потянула на себя набрякшую сыростью дверь телятника, миновала темный тамбур и очутилась в низкой кухоньке.