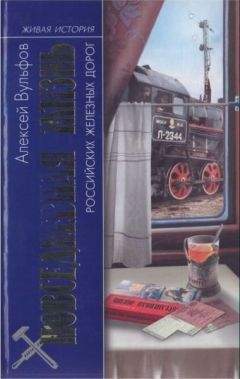Юрий Казаков - Любимые рассказы для детей
– Ну что ж, – сказал наш хозяин, когда мы сложили в кучку под поваленным стволом сосны наши припасы. – Пошли, послухаем!
И мы пошли на подслух. От того места, где мы остановились на ночевку, надо нам было пройти метров двести – триста к северу. Мы шли осторожно, вразброд, чтобы стать подальше друг от друга. А потом остановились, прижались к стволам сосен, стали неслышны и неразличимы, стали смотреть вверх и по сторонам и слушать. Сильно стучало сердце, шуршала одежда по коре… Так мы стояли долго, солнце зашло, стемнело, и птицы смолкли, только вдали еще яростнее бормотали тетерева.
Вдруг я увидел метрах в ста, за частоколом леса, тень, которая мне в первое мгновение показалась длинной, как веретено, от быстрого полета. Тень пропадала и появлялась, описывала гигантскую кривую и, переместившись с востока на север, туда, где небо было еще цвета шафрана, села, успокоилась, замерла на одной из сосен. А через секунду к нам донеслось мощное тугое лопотанье крыльев при посадке.
Так появился первый глухарь. Потом я услышал такое же лопотанье, и значительно ближе, с другой стороны, но тени на этот раз не видел. И потом еще в течение получаса то там, то здесь шумели крылья садящихся птиц. Мне вдруг стало холодно, озноб волнами пошел по телу. Я не знал, слетаются ли каждый раз все новые глухари или уже севшие снова перелетают.
Уже в совсем смутном свете ночи я заметил краем глаза какое-то движение над землей, низко, повернулся и увидел, как хозяин молча махал мне рукой, что надо идти назад. Тогда я отделился от дерева и осторожно пошел, уже ничего не слыша, а видя только смутные фигуры сходившихся людей.
Метров через двести мы пошли смелее, стали переговариваться вполголоса, а когда пришли опять в буреломное место, обходя поваленные деревья, и нашли свой чайник, хлеб и сахар – стали совсем уже смело ломать сучья для костра.
Тогда, в начале мая, еще не было белых ночей. А был жидкий сумрак, рассеянный в лесу, и все коряги, стволы, сучья стали похожи на притаившиеся живые существа. Костерчик наш весело трещал, ярко полыхал, дымил, когда мы совали в него обомшелую сухую кору. Дым синим столбом поднимался вверх, потом растекался по лесу, и я подумал, что дым этот далеко можно учуять.
– А как глухари? Не спугнет их дым? – спросил я.
– Что ты! – сказали мне. – Ни одна птица дыму не боится.
Было часов одиннадцать, глухари начинали токовать в час ночи – два часа надо было просидеть нам у костра. И мы устроились кто как хотел. Один сел на ствол, другой – на кочку, третий – на корточках, палкой в костре ворошил, и искры взлетали вверх. Хозяин наш покашливал, сильно дул в кружку с чаем, громко прихлебывал. А проводник все похохатывал, весело ему было жить, сидеть у костра в предвкушении охоты, и вообще был он какой-то хищный на своих гнутых ногах, крепкий, жилистый, молодой еще, с раскрытой грудью…
– Это вам повезло, повезло вам, ребята, – говорил он, – глухарь тут есть, есть, это я вам точно говорю! Точно! Много ли, мало – а штук тридцать на току имеется, правду я говорю? – обращался он к хозяину.
– Тут у нас и бобры есть, – рассеянно сказал хозяин. – Пониже по реке хатки у них… Река тут глухая, жилья нигде нету. Они это любят, бобры-то.
Вдалеке в разных местах токовали тетерева.
– А весна! – громко сказал проводник и ухо поставил, послушал, как наигрывают тетерева. И мы все послушали.
– И комаров, чертей, нету! – с удовольствием выговорил хозяин, шапку снял, утерся. Волосы у него взмокли от испарины, от горячего чая, и видно было, что хорошо ему.
– Здорово вы тут живете, – сказал я, думая о бобрах и об охоте. И о хозяине подумал, как он тут живет, один на всю округу, лыжи у него, собака, как зимой он тут ходит – птицы, зверя много. Не знаю, почему-то о зиме, о снеге мне подумалось.
– Хорошо, не хорошо – вольно!
– Что вольно, то вольно, это ты верно! – поддержал проводник. – Ты ведь тут давно? Я на работу поступил, ты ведь тут уж был?
– Я тут шешнадцать годов, вскоре после войны, – как отвоевался, домой приехал, бабу забрал (в Архангельске она у меня жила), – так и суда поступил.
Помолчали. Сильно пахло мхом, сладкий это был запах, весенний, сырой, тянуло еще черникой, клюквой, талой снежной водой из ямок, из-под выворотней. Когда мы шли сюда, нам все мыши попадались, шныряли во мху и мокрые были, даже на спинках шерсть торчком стояла мокрая. Они и сейчас бегали озабоченно вокруг нас, попискивали, выгнала их всех вода. А может, и не вода, а весеннее беспокойство.
Ах, время-то какое было, май – и этот Север, эта глушь, робкий холод по ночам, костерчик, дымок, чай распаренный в черном жестяном чайнике, мужики эти с нами, и мы там, в том лесу, а вокруг нас чутко дремали глухари по соснам, а еще дальше на лесной речке выходили в эту минуту из воды бобры.
– Сам-то ты из Архангельска? – спросил проводник хозяина.
– Нет, я северный, с Куи, слыхал?
– Это что на Белом море?
– Нет, под Нарьян-Маром…
– Ого! Чего ж ты оттуда подался?
– Да, я там, в Куе-то, почти и не жил.
– А где же?
– А на берегу океана, на промыслах семги да песца.
– Это в коем же месте?
– От Печоры поправее будет.
– А сюда чего перебрался?
Хозяин наш помолчал, потом неуверенно:
– Летом там беспокойно жить. А зимой ночи долгие, дня не видать. Да я и так до самой войны почти оттрубил. А попал я туда мальчонкой совсем, в двадцатые годы.
– Один, что ли, или как?
– А так вот, что время было голодное, нужда заставила. Батя мой договор заключил.
– Постой! – перебил мой приятель. – Ты сказал, летом беспокойно жить – в каком смысле?
– Солнце не садится, днем и ночью светит, спать совсем неохота, и усталость сильная от этого происходит. А еще сказать – как-то оно все грезится тебе чего-то…
– Грезится?
– Ну да, тянет тебя всего как-то, места себе не находишь, беспокойство, словом…
Хозяин стал закуривать, пыхнул раз-два дымком, закашлялся, поглядел в сторону тока, спросил:
– Время-то сколько?
– Полдвенадцатого, – сказал мой приятель, приглядевшись к треугольным своим швейцарским часам.
– А! – протяжно выговорил хозяин и опять пыхнул раза два дымком. – Дак вот… О чем это мы?
– Насчет грезится, – быстро сказал проводник и хохотнул почему-то, завозился.
– Да! Вот так, значит, мы и снарядились. Батя мой всю семью с собой взял, а еще сосед был с нами – Артемий Кожевин, – тот сына только взял. Договор заключили на лов семги и поехали. Мой, значит, батя с нами да Артемий с сыном. А поехали из Куи на боту, поехали на мыс Горелка. Высадили нас, кругом ни души, тундра одна, снег под берегом, а дело в июле, смекаешь? Свезли нас с карбаса на берег, сети, барахлишко наше какое-никакое, а на берегу хибара такая стояла, развалюха совсем, бревенчатая такая, тоня, одним словом. Отец печь слепил, стенку пристроил, баньку там сделал, чтобы помыться было когда. Так и зажили, все лето семгу ловили, стали муку получать, сахар, масло – это авансом за рыбу. Артемий-то с нами жил в одной избе, ему там не понравилось, не стал строиться. «До осени побуду, говорит, и уеду, ну ее к дьяволу!» Скучно ему там показалось, жилье-то в одну сторону на двадцать пять, в другую на сорок пять километров.
Вот он сезон отловил, а осенью стал это, значит, домой подаваться. А бота к нам не приворачивали, бота заходили только на фактории. И вот в сторону Печоры стояла такая фактория. Дресвянка по имени.
– Погоди! – перебил проводник. – Это где Болванская губа, что ли?
– Во-во… А ты дак бывал там?
– Я там в Носовой бывал. Как раз с оленями кочевали, в Носовую завернули, а там уж знают! Сейчас спирт этот, НЗ это сейчас в магазин забросили – и пошло! Это в шестьдесятом было…
Проводник даже заерзал от сладких воспоминаний.
– Ну, это… – хозяин сморщился. – Не уважаю я, когда так-то пьют… Они, понимаешь, – он повернулся к нам, – в тундре месяцами живут, а потом как дорвутся, пьют до того, что уж и ползать не могут. Право слово! Нет, я бы им вообще спирту не продавал. Не уважаю я так-то пить.
– Ну, а про факторию-то, – напомнил я.
– Дак что ж про факторию? Отправились это, значит, мы на эту самую Дресвянку втроем. Батя меня пустил, собачонка с нами, мне двенадцать лет, а сыну Артемия, Петькой звали, тому лет тринадцать, постарше меня был. Это я вам все к тому, чтобы понятней было, как там зимой жить. Хотя так-то сказать, кто там не зимовал, все равно не поймет… Страшно! В бурю, в пургу страшно, а когда тихо, еще того хуже. Снег белеет, а ты один в тундре!
И тут возник некто за моим плечом, в глухом свете северного леса, и задышал мне холодом в затылок и глухо зашептал:
– Небеса и земля погружены в вечный покой. Нигде ни одного признака жизни, ни одного воспоминания о ней. Ум ни над чем не работает, ни на чем не отдыхает. Бесконечные созвездия не могут уронить ни одной радостной искорки в эту мертвую атмосферу. Холодные безжизненные звезды ничего не говорят сердцу. Глаза устают смотреть на них и снова обращаются к земле, ухо чутко прислушивается, не нарушит ли хоть малейший шум это подавляющее молчание, – но нет, не раздается ни одного человеческого шага, ни одного живого голоса. Не слышно даже слабого крика птиц, даже легкого шелеста снастей, колеблемых ветром. В этой беспредельной пустоте я слышу только биение собственного сердца; кровь, бьющая в моих артериях, утомляет меня своими сильными ударами. Молчание перестает быть отрицательным понятием, оно наделяется положительными качествами. Я его слышу, и вижу, и чувствую. Страшным призраком встает оно передо мною, возвещая конец всему существующему, наполняя мою душу чувством смерти. Я не могу больше выносить этого. Я сбегаю со скалы, я начинаю ходить, сильно стуча сапогами, заставляя скрипеть снег, чтобы прогнать этот призрак смерти…