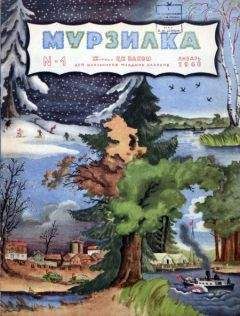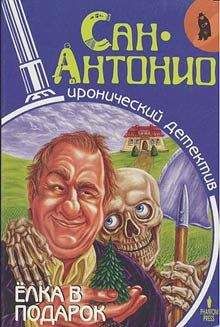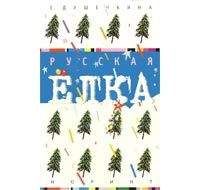Андрей Упит - Пареньки села Замшелого
Таукиха и Плаукиха разом всплеснули руками.
— Эх ты, раззява! — всполошилась Плаукиха. — Это ж самой старостихи кудель!
— И разом полкудели!.. — подбавляла жару Таукиха. — Дурная, как есть дурная! Этак все село недолго спалить.
Ага! Двое на одного нападают!.. Слезы у пряхи мигом высохли: нельзя же допускать, чтоб тебя живьем рвали на куски. Нет уж, не на таковскую напали.
— Да провались оно, ваше село! Много ли я от него добра видела? Что я от пряжи своей — жиру на брюхе накопила? Как иные прочие, что и хлеб-то замесить не сподобятся. Да разве ж матушка Букис мне это спустит? Пять копеек отсчитает. А я-то к масленице чаяла новые постолы купить, в этих корытах прямо ноги отваливаются.
Ну вот, опять она бередит рану! И чего эта пряха хнычет, будто ей одной худо? Кумушки мигом позабыли, что ноги коченеют, что утренний мороз больно щиплет щеки, а ресницы побелели от инея, — язык-то всегда в тепле.
Плаукиха поспешила опередить Таукиху:
— Постолы! Нашла из-за чего скулить! Вот у моей Мице третий месяц чесотка — на ночь руки полотенцем связываю, а то во сне глаза повыцарапает.
— Подумаешь, чесотка! Велика ли беда! — отозвалась пряха. — Уж я-то повидала, знаю. В первую же пятницу после полнолуния натопи пожарче баню, пусть веником попарится, а потом ополоснется капустным рассолом. Да смотри не забудь веник через крышу перекинуть — хворобу как рукой снимет.
Коли беде сочувствуют, тут уж дело иное, и Плаукиха согласна на мировую.
— И парили, сестрица, и ополаскивали! Не помогает. Крест господень!
Пока Плаукиха вздыхала, Таукиха завладела разговором:
— Пустое все это! Как три месяца сравняется, на четвертый чесотка сама пройдет… А вот у меня со скотиной беда! Телята не пьют, у коров в корыте за ночь пойло скисает.
Слушательницы многозначительно переглянулись и даже придвинулись друг к дружке.
Плаукиха подмигнула пряхе:
— Как же ему не скисать, коли ты ржаной муки подмешиваешь? От ржаной, сестрица, оно всегда скисает.
Таукиха гордо выпятила живот:
— Какая же я тебе сестрица? Мы с Плауками сроду не роднились! — Но тут же она тяжело вздохнула, позабыв и про родню и про свою спесь. — Ну как же мне своего-то от пивной кружки оторвать? Дома так и липнет, так и липнет, а на заработках опять же водка. Вот куда все наши денежки летят! «Богатеи, богатеи!» — так и кудахчут все вокруг нас. А где же оно, это богатство? Каждый год по пять пур ячменя уходит на пиво.
Теперь все втроем оседлали любимого конька. Они даже не заметили, как хозяйка избушки, уже в другой раз приоткрыв дверь, выглянула во двор узнать, кто ж это гомонит у нее под окном. Не посмотрели они и в сторону села, а оттуда из сугробов иной раз появлялись две или три фигуры. Опомнились кумушки только тогда, когда к ним притопала Вирпулиха-Шалопутиха в мужниных сапогах и куртке. Прозвали ее так оттого, что муж у нее был шалопутный. И сама она легонькая, будто клок кудели, все вертелась и скакала, как сорока, да трещала без умолку вроде этой вздорной птицы. А коли появилась Вирпулиха, другим не удастся и словечка вставить.
У Вирпулихи и скотина и муж в добром здравии, зато мальчишки — чистое наказание. Как отец уйдет, прямо сладу с ними нету, с четырьмя.
Вирпулиха стрекотала, размахивая руками, длинные рукава так и мелькали в воздухе. Ей и дела мало, слушают остальные или нет, лишь бы свою душу облегчить.
Так вот, значит, понадобилось ей как-то шерсть смотать в клубок, а Янцису положено пряжу держать. Да где уж там! Докличешься Янциса, коли ему приспичило за ригой ставить капкан на хорька! Епису велено хворосту принести — плиту растапливать, а он с салазками на гору убежал. Юрцису приказано картошки начистить — как же, дожидайся! Ведь папаша Букис свинью колет — есть на что поглазеть. Ну, а уж меньшой Иоцис будет самым отпетым сорванцом. Да как же иначе при этаких трех наставниках!
— У кого какие дети! — холодно заметила Таукиха, как только у Вирпулихи на миг захватило дух. — Вот мой Прицыс — ну хоть бы разок вот столечко набедокурил! Головка у него всегда гладенькая, нос чистехонек, а сам так и сидит за букварем, так и сидит.
Какое Вирпулихе дело до примерного Прицыса с его букварем! Она вскинула руки так, что длинные рукава взметнулись, точно сломанные крылья, и затараторила:
— Ей-ей, сестрицы, четверых парнишек променяла бы на одну девочку! А цыганка мне и говорит: «Не будет у тебя дочки, коли медведь не принесет счастья».
Варежки Вирпулиха забыла прихватить, а в мужниной куртке их не оказалось. Она подвернула длинные рукава и стала дуть на посиневшие пальцы, которыми двигала так же быстро, как языком. Пряха притопывала в своих больших деревянных башмаках, но дерево, оно, известно, дерево, тепла от него не будет. Да коли уж разговор зашел о цыганах, так пускай ноги и вовсе отмерзнут, и она понеслась во весь опор в страхе, как бы ее не опередили:
— У меня цыганка не много взяла. «Пускай, говорит, богатые платят, а беднякам учение задаром. Матушка Букис, говорит, дала ветчинки и два кружка крупяной колбасы. А ты, говорит, дай горсть льна, а по весне, когда станет коровка доиться, полштофа сметаны. Вот и будет с меня, беднякам гадаю задаром».
Таукиха оскорбилась за все свое сословие:
— А лен-то чей? Твой, что ли? Мой лен и матушки Букис! Вот этак все наше добро и тает! Нынче босота и вовсе стыд потеряла. По прошлому году — горстку, нынче пять, глядишь, на будущий год до нитки оберут. А мне эта самая цыганка вот что сказала: «У тебя, говорит, матушка, от добра сундуки ломятся, отдай вон те полосатые штаны моему цыгану. Не пожалеешь: вот посмотришь, как на будущий год лен у тебя закудрявится! И дай еще фунтик шерсти, а за это овечки твои по двойне станут приносить и шерсть у них будет что трава-мурава, чистый шелк». Наплела с три короба, — а где они у меня, эти двойни?..
Она и кончить не успела, как ее уже перебила Плаукиха:
— А у меня, окаянная, полмиски сала взяла, больше-то и не было. Да еще пару чулок с лежанки утащила. Ладно уж — цыганка, она цыганка и есть, но хоть бы помогла своей ворожбой! Где уж там! Ни полстолечка! Девчонка моя как чесалась, так и по сей день чешется.
Вирпулиха, наклонившись к пряхе, шептала свое:
— А мне цыганка говорит: «Ты, сестрица, за все про все дай мне три рубашки и рубль серебром — медяков-то у меня побольше твоего будет, а на бумажки я и глядеть не стану». Где же это я ей еще две рубахи возьму, коли у меня и всего-то одна, да и та на мне? А может, оттого и не помогло?
В пылу беседы кумушки поначалу не заметили, как на дворе появились еще две фигуры. Но потом вся четверка всполошилась: это пожаловал сам староста Букис со своей дражайшей половиной. Оба были в шубах с поднятыми воротниками, староста дважды опоясался узорчатым кушаком, а старостиха закуталась поверх шубы в три шерстяных платка. Букис трусил мелкой рысцой впереди супруги, а она шла следом, запыхавшись, испуганная и до крайности разгневанная.
— Ах ты старый плут! — отдуваясь, бранила она мужа. — Сам бегом бежит, а меня бросил зверю на съедение!
— Ну-ну-ну! Да разве ж я бегу? — горохом сыпал Букис, тоненьким, бабьим голоском. — Для тебя же снег уминаю.
Чета Букисов всегда так: чем тише папаша Букис, тем громче мамаша Букис, а сейчас она и вовсе будто в трубу трубила:
— Тоже еще! Уминальщик выискался! Сущий басурман! Да можно ли с этаким мужем век коротать? Хоть к пастору беги — пусть разводит!
Пряха подтолкнула локтем Плаукиху:
— Слышь, сестрица, у богачей вон оно как, тоже не больно гладко.
Букис отлично понял, что кумушки только и ждали такой потехи. Ладно бы уж у себя в дому нести крест, так нет же, мало ей, понадобилось мужа перед людьми позорить! Букис попытался принять осанку, подобающую его высокому положению, и грозным взором окинул собравшихся:
— Ну-ну! Чего это вас всех сюда принесло? Раскаркались, как вороны! Чего людей тревожите спозаранку?
Вирпулиха сделала смиренное лицо, как и положено в присутствии власти, да разве ж язык так легко смиришь?
— Ой, папаша Букис, а ты сам-то?
Букис с достоинством прочистил глотку и выгнул шею так, чтобы поднятый ворот не заслонял уха.
— Я, стало быть, староста села! Мне, стало быть, надобно вести надзор. Я Ципслихе опекун, а сиротам ее — заступник. Я, стало быть, должен проверять, как живут вдова и сироты.
Плаукиха как ни крепилась, а все же не выдержала:
— Ох, и опекун, ох, и заступник!
Старостиха так и взъелась:
— Скажите на милость! Букис, ты староста этого села или, может, уступил свою должность Плаукихе?
Таукиха, разумеется, встала на защиту власти:
— Нынче вся босота нос задирает!
Староста чуть посвободнее отпустил пояс и пропыхтел:
— Чистая погибель с этим бабьем! Лучше бы мне пойти с мужиками лес рубить.