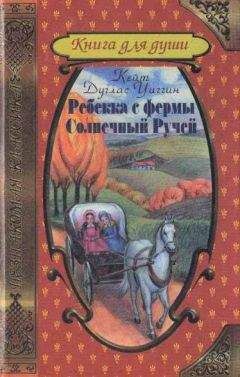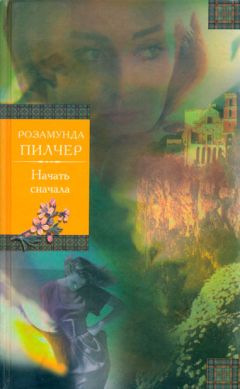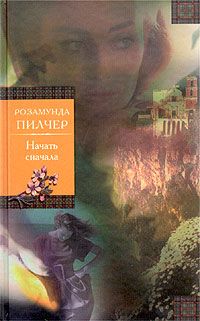Кейт Уигглин - Ребекка с фермы Солнечный Ручей
«Снова пришли плотогоны!» — воскликнула она, прикладывая руку к груди, так как у нее была нетяжелая болезнь сердца, как у Коры, жены доктора, и миссис Мизерв, — такая, от которой не умирают.
«Они в самом деле пришли, а именно — тот, которого ты знаешь», — произнес чей-то голос, и из зарослей ольхи выскочил Ланселот Литлфилд, поскольку именно так звали влюбленного и поскольку был это не кто иной, как он. Волосы у него вились и выглядели точно чистое золото. Его рубашка, хоть всего лишь из фланели, была новая, чистая и красивого цвета, и глядевшей на него девушке он казался сказочным принцем.
«Прости», — тихо сказала она, простерая свои изниможденные руки.
«Нет, моя услада, — ответил он. — Именно я должен сказать тебе это». И, гротциозно припав на одно колено, поцеловал край ее платья. Оно было из ярко-розового льна и искустно отделано белой тесьмой.
Они долго стояли у реки, прижав друг друга к сердцу, как Кора и доктор, пока вдруг не услышали стук колес на мосту и не догадались выпустить друг друга из объятий.
Стук колес был все ближе — и что же? — к ним подъехал отец девушки.
«Можно мне обвенчаться с вашей прекрасной дочерью сей же месяц?» — спросил Ланселот, чье имя мы не будем снова называть полностью в этой истории.
«Можно, — ответил отец, — ибо — взгляни! — она готова и давно этого ждет». Он сказал это, не замечая того, как позорит этими словами девушку.
И тут же на месте был назначен день свадьбы, и, когда он настал, узы Гименея связали их на берегу реки, где они впервые встретились, берегу, где они расстались в гневе и где вновь принесли клятвы верности и прижали друг друга к сердцу. А река в то лето обмелела, и ей все казалось, будто это оттого, что ничьи слезы больше не капают в нее, а сменившие их улыбки, как солнце, высушили ее воды.
Р.Р.Р.
Finis.
* * * * * * ПрофессииНоябрь, 187-.
Очень давно, когда я смотрела, как мисс Росс рисует старую мельницу на Солнечном Ручье, я думала, что стану художницей, так как мисс Росс ездила в Париж, который во Франции, где она купила мой бисерный кошелечек и розовый зонтик, и мне хотелось тоже увидеть улицы с красивыми яркими вещами в окнах магазинов.
Потом, когда приехавшие из Сирии миссионеры останавливались в кирпичном доме, миссис Берч сказала мне, что, став членом церкви, я должна научиться музыке и пению и поехать в далекие страны спасать души язычников. И тогда я решила, что это будет моей профессией. Но мы, девочки, попробовали создать свое отделение Миссионерского общества, и ничего не вышло. Отец Эммы-Джейн даже не разрешил ей пригласить девочек на ее день рождения, когда узнал, что она сделала, а меня тетя Джейн послала к Джейку Муди сказать, что мы не хотели его обидеть, когда просили чаще бывать на собраниях. Он сказал — ладно, мол, но пусть только попадется ему на его дворе эта Перкинсова девчонка с постной рожей и уж запомнит она свой визит — что было такой же грубостью, как и наша попытка призвать его вести более правильную и хорошую жизнь.
Потом, когда дяде Джерри, мистеру Аладдину и мисс Дирборн понравились мои сочинения, я подумала, что лучше стану писателем — ведь я непременно должна кем-нибудь стать, как только мне исполнится семнадцать, а иначе как же мы сможем выкупить закладную на ферму? Но даже эта надежда отнята у меня теперь, так как дядя Джерри высмеял мою историю «Ланселот, или Поссорившиеся влюбленные», и я решила стать учительницей, как мисс Дирборн.
Причиной этого жалостного сообщения о перемене цели жизни и избранной профессии послужило то, что Ребекка прочитала свой «взрослый» рассказ мистеру и миссис Кобб в саду после ужина. Дядя Джерри постоянно уверял, что жители Риверборо не годятся в герои рассказов, и «Ланселот, или Поссорившиеся влюбленные» был написан с целью раз и навсегда опровергнуть это утверждение — утверждение, которое Ребекка считала (вполне справедливо) несостоятельным, хотя, безусловно, не сумела бы объяснить почему. К несчастью, Ланселот оказался плохим проповедником ее идей, совершенно неспособным на те высокие свершения, которые прочила ему юная романистка, и дядя Джерри, хоть и был всего лишь возницей дилижанса и не слишком начитанным человеком, сразу почувствовал расплывчатость и неубедительность «Поссорившихся влюбленных», как только они были представлены на его рассмотрение.
— Вот видите, и о тех, кто живет в Риверборо, можно написать рассказ! — с торжеством заявила Ребекка, закончив чтение и складывая листы бумаги. — И все это вышло из того, что я заметила следы плотогонов у дороги и задумалась об этих людях. А если задуматься, всегда получится рассказ; так говорит священник.
— Да-а, — задумчиво согласился дядя Джерри, отклоняясь назад вместе со стулом, на котором сидел, и, прислонив его спинку к стволу яблони, постарался побудить свой неповоротливый ум к незамедлительной и бурной деятельности, поскольку Ребекка была его гордостью и радостью — существом, по его мнению, сверхчеловеческого таланта, а следовательно, и тем, кого желательно «пообтесать», когда этого требуют обстоятельства.
— Это, конечно, риверборская история, так как ты вставила в нее и реку, и мост, и холм, и плотогонов. Но есть в ней что-то ужасно странное: эти люди ведут себя не по-риверборски и говорят не по-риверборски, на мой взгляд. По-моему, это самая настоящая книжная история.
— Но, — возразила Ребекка, — люди в «Золушке» тоже вели себя не как мы, а вы нашли, что это прекрасная история, когда я вам ее рассказала.
— Знаю, — ответил дядя Джерри, обретая красноречие в пылу спора. — Они вели себя не как мы, но, по крайней мере, они вели себя так, как на них похоже! Так или иначе, а все они были под стать друг другу. Золушка, может быть, была слишком уж хорошая, а сестры уж чересчур отъявленные злодейки, чтобы жить на свете, и та старушка, что имела про запас карету из тыквы… Ну что ж, во всяком случае, веришь в эту карету, крыс, мышей и все остальное, прежде чем успеешь подумать, что это неправда. Не знаю почему, но люди в истории про Золушку как-то подходят друг другу. Все они здорово неправдоподобные — и этот парень, принц с хрустальным башмачком, и вся остальная компания, — но все равно слушаешь с открытым ртом и веришь. Но ей-богу, Ребекка, никто не принял бы на веру эту твою деревенскую девушку, а что до этого, как его там, Литлфилда, который выскочил из кустов, то такой парень никогда в этих кустах и не сидел! Нет, Бекки, ты самая умная девчушка в нашем городке и дядю Джерри за пояс заткнешь, когда надо употребить грифельный карандаш, но, по-моему, это не по-настоящему риверборская история! Ты только послушай, как они говорят! Что это за «узы Гименея»?
— Это изящное выражение; вместо слова «поженились», — объяснила подавленная и отрезвленная писательница; хорошо, что горячо любящий старик не видел в сумерках ее глаза, иначе он догадался бы, что слезы совсем близко.
— Ну, тогда ладно; я смыслю не больше коровы, когда дело касается словаря. А что это там этот, как его, говорит девушке: «Нет, моя услада»?
— Я и сама подумала, что это звучит глупо, — призналась Ребекка, — но так доктор называл свою жену, когда уговаривал ее не ссориться с его матерью, которая поселилась у них. Я знаю, что так не говорят в Риверборо, но я думала, что, может быть, это бостонское выражение!
— Ну нет! — решительно заявил мистер Кобб. — Возил я бостонцев в моем дилижансе из Милтауна, и не раз, и никто из них никогда не сказал мне: «Нет, моя услада» — и ничего другого этакого. Они говорили как люди — все до одного! Если бы этот, как его там, сидел бы рядом со мной на моей «палубе» и попробовал бы сказать мне: «Нет, моя услада», я спихнул бы его прямо в кукурузное поле у дороги. Я думаю, ты еще не доросла до того, чтобы писать такие истории, Бекки; ведь лучше твоих стихов никто в нашем графстве Йорк не напишет, а твои сочинения так хороши, что хоть на городском собрании вслух читать!
Ребекка немного оживилась и, как всегда, ласково попрощалась со стариками, но с холма спускалась в невеселом расположении духа. Когда она добрела до моста, солнце уже садилось за лес судьи Бина. И пока она смотрела, солнечный свет лился прямо на широкую, неподвижную реку, и на одно прекрасное мгновение деревья на берегах отразились в ее поверхности, поплыв в море розового сияния. Облокотившись о перила, она следила, как свет превращается из малинового в пунцовый, из пунцового в розовый, из розового в янтарный и из янтарного в серый. Затем, вынув из кармана передника «Ланселота, или Поссорившихся влюбленных», она разорвала рукопись на кусочки и со вздохом бросила в воду.
«Дядя Джерри не сказал ни слова о конце! — подумала она. — А он был так хорош!»
И она была права; но хотя дядя Джерри и был неплохим критиком, который мог просветить в том, что касалось поведения и языка его риверборских соседей, не в его власти было указывать путь юной мореплавательнице, плывшей «на манящий дальний свет» по волнам своего воображения.