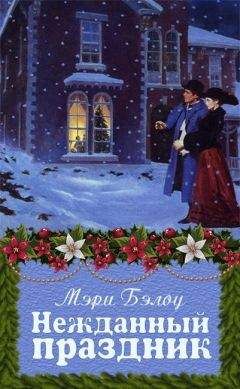Елена Серебровская - Начало жизни
А кроме того, он был профсоюзный активист, председатель месткома. В институте, где коммунистов было в те годы очень мало, профсоюзу хватало забот. Отец с возмущением рассказывал дома о том, сколько у них отсталых, несознательных научных работников. Когда в канцелярии института он повесил портрет Ленина, один из сотрудников, Игорь Анатольевич Штраль, улыбнулся снисходительно и заметил:
— Теперь у нас свой Кузьмич будет. — Какой Кузьмич?
— Ну, Лукич… То-есть, Ильич.
— Постыдились бы, — сказал ему коротко Борис Петрович. Но Игорь Анатольевич даже не смутился. В жилах его текла «голубая» дворянская кровь и его раздражало это мужицкое имя, каким рабочие называли любимого Ленина — «Ильич».
Домой отец приходил пообедать и поспать часок, после чего снова отправлялся в институт. В восемь вечера он возвращался домой, ужинал вдвоем с женой, пилил дрова и снова садился за письменный стол, теперь уже часов до трех ночи. Иногда, впрочем, он ездил вечером в Дом безбожника читать популярные лекции, начало которым в его жизни положил комиссар Медведев.
Об экспедиции отец рассказывал за ужином. Всё в этих рассказах получалось очень интересно, увлекательно, в меру опасно (в меру потому, что мама была слишком нервная и слишком любила мужа, чтобы не волноваться за него). Но при детях он не всё рассказывал.
Однажды — дело было под выходной день — Маша дольше обычного читала в постели. Захотелось есть. Она встала, сунула ноги в туфли и вышла в столовую.
Дверь в кабинет отца была открыта. Мама, верно, лежала уже в постели, а отец всё еще сидел за столом. Но он не писал, а всё рассказывал маме о своем путешествии. Маша прислушалась.
— Гродзенский меня явно преследует. На Алтае, у чёрта на рогах, в дебрях я опять увидел эту костяную физиономию. В день отъезда я засыпал сухим песком экземпляры дикого чеснока возле палатки, гляжу — из лесу появляется охотник. С ружьем, у пояса какие-то птички болтаются и фотоаппарат маленький, немецкий. Коллектор наш Максим строгал какую-то доску. Охотник этот подошел к нему и попросил позвать профессора Штраля. А Игорь Анатольевич куда-то отлучился, приходится гостю ждать. Я стою у стола, сыплю песок в коробку и — чувствую за спиной кого-то. Знаешь, бывает, что смотрят на тебя сзади, а ты чувствуешь. Обернулся я, — а он посмотрел мимо меня и повернулся спиной. А Максим уже Игоря Анатольевича ведет… Тот как увидел, сразу — в объятья: «Какими судьбами?». Но охотник взял его под руку и увел в лес. А возвратился наш Игорь Анатольевич спустя часа полтора один. Я его спрашиваю: кто это был? Говорит, один знакомый, большой оригинал, коллекционирует гравюры, так специально разыскивал меня, уговаривал продать ему листы-гравюры Шишкина. Никак, мол, не мог уговорить его с нами поужинать. Не мог! Вот и решай, как знаешь. Зачем приезжал?
— Господи! Сколько еще всякой швали живет на свете! — послышался голос матери. — Он и убить тебя мог, чтобы свидетеля не было. Говорила я тебе, Боря, оставь эти экспедиции. Пусть уж молодежь ездит, а ты за столом работай.
— Надо бы рассказать об этой встрече в парткоме. Да неловко: скажут «у вас психастения»…
Вскоре на имя отца пришло письмо. Маша сама вынула его из голубого почтового ящика, прибитого на двери, и вручила отцу; был обеденный час и все сидели за столом. Отец тут же надорвал конверт и начал читать. Глаза его щурились всё больше, лицо кривилось. Прочитав, он бросил письмо на стол и сказал маме:
— Можешь поздравить: анонимка. Вот познакомься, — и он вручил ей письмо, написанное круглым женским почерком, лиловыми чернилами.
В письме содержались угрозы — рассказать всюду о службе Бориса Петровича у Деникина и в «Заготпроде». Кончалось оно поговоркой: «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами».
— Идиот, — сказал папа, — неужели он думает, что я на чистке не рассказал о деникинской мобилизации? О «Заготснабе», правда, говорил без подробностей. Пойду в партком и анонимку эту прихвачу.
— Неужели это Гродзенский? — испуганно сказала мать, не обращая внимания на детей.
— Может быть. С чего бы мне угрожали? В связи с чем? Конечно, в связи с этой встречей на Алтае. Опоздало письмецо, я уже принял решение. А если б и раньше пришло оно, — разве это меня остановило бы?
— Боренька, мне почему-то жутко делается за тебя, — сказала мама, бессмысленно глядя в тарелку. — В такую перепалку попасть…
— Что поделаешь. Два мира, две системы. Прежде нас приучали, что теория это одно, а практика другое. А на деле не так. Всё, что Ленин написал и что сегодня партия в газетных передовых нам говорит, всё это — жизнь, практика. Это называется классовая борьба. Ты только попусту не волнуйся, никто меня убивать не собирается.
Глава двенадцатая
В Машиной классе появился новичок. Это был худенький мальчик с тонким, узким лицом, острым носиком и добрыми глазами. Его привела мать. Он вошел в класс, сел на свободное место, а она всё еще стояла у двери и смотрела на него грустными глазами. Прозвонил звонок на урок. Маша спешила в класс и в дверях чуть не столкнулась с мамашей новенького.
— Вы… его не обижайте, он хороший мальчик! — просительно сказала женщина и ушла.
Странная просьба! Словно тут всех обижают. Новенький не понравился Маше: у него был мышиный, писклявый голос, сам он был страшно робкий, краснел от всякого пустяка. Давно ли Маша сама сгорала от смущения, входя в класс? Сейчас она осмелела и забыла о прежних страхах. И совершенно безжалостно, бездумно стала подтрунивать над новичком.
Когда на занятии по физкультуре выстроились в один ряд, выяснилось, что новенький — довольно высокого роста, его поставили рядом с Машей. Но он ничего не умел, подтягивался на турнике с мучительным напряжением и не больше одного раза. Пройти по буму не смел — у него кружилась голова. Однажды Зайченко во время возни в переменку стукнул его легонько в грудь, новичок отвернулся и заплакал.
Его звали Виктор Гордин. Маша, обычно отзывчивая и добрая, почему-то придиралась к этому хилому пареньку, дразнила его и не защищала от других. Однажды она увидела у него на руке нарисованные чернилами инициалы. Там, несомненно, была буква М и еще какая-то, не сразу разберешь. Всё вместе было похоже на полураскрытый зонтик.
Учитель рисования, завоевавший всеобщую любовь после того, как принял участие в спектакле в качестве гримера, устроил экскурсию на острова. В первый же солнечный день он отвез ребят на Стрелку. Здесь он учил ребят замечать красоту осеннего пейзажа, показывал им маленькие мостики над водой, хрупкие, точно сделанные из спичек, учил выбирать вид поживописней и даже предложил зарисовать, кому что придется по душе. У всех были с собою альбомы для рисования и карандаши.
Маша выбрала себе местечко на зеленом пригорке, села и стала рисовать. На бумаге всё теряло свою красоту. Но всё же, можно было схватить и переложить на бумагу контуры деревьев, свисающих ивовых ветвей, легонького мостика.
— Да ты настоящая художница!
Это сказал Витя Гордин, заглянув в листок, который Маша держала на коленях.
— Не смей смотреть!
Она покраснела и закрыла листок руками.
Витя ушел тотчас, и не попытался спорить. Он сел под деревом и стал что-то чиркать в своем блокноте.
На другой день он подошел к ней до уроков, шутовски раскланялся и протянул ей сложенный вдвое листок из тетради по математике:
— Синьора… Имею честь преподнести вам оду…
С этими словами он всё-таки покраснел до корней волос, и его светлые ресницы и брови стали совсем белыми. К счастью, никто не обратил на них внимания — ребята возились в коридоре.
Маша с любопытством раскрыла сложенный вдвое листок. Ей никто еще не сочинял од. Интересно!
Она прочитала:
Как, Маша, чудно ты рисуешь,
Зачем мой взгляд ты так волнуешь,
Зачем закрыла предо мной
Свое художество рукой?..
Желаю, Маша, вам успеха,
Я, стихоплёт, вам не помеха,
Хотел я оду написать —
Пришлось всё снова сочинять.
И написал я вам посланье
На первый раз и на прощанье.
Вот так тихоня, вот так Виктор Гордин! Она перечитала стихи несколько раз и чуть было не получила неуд, когда учитель вызвал ее к доске. В душе она ликовала: всё-таки, он написал это ей, а не той, чьи инициалы нарисованы у него на руке чернилами.