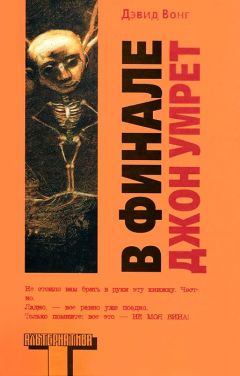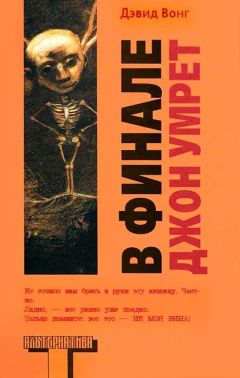Алексей Свирский - Рыжик
— А почему ты ему не скажешь об этом?
— Кому?
— Да дяде! Он бы с тебя за ночлег не брал…
— Голос у меня, голубчик, слабый, — грустно усмехнулся Герасим, — не услышит он меня.
Рыжик ничего на это не возразил. Наступило молчание. Санька стал позевывать и потягиваться. Он всем существом своим ощущал теплоту и несказанно был доволен. Временами, как тучки на ясном небе, появлялись в его голове грустные мысли о завтрашнем дне, но он все эти думы гнал прочь и наслаждался настоящим.
— Уйду я скоро на родину, вытребую себе паспорт, отправлюсь по святым местам, — протяжным, тихим голосом, каким говорят дети, когда мечтают вслух, проговорил Герасим и стал снимать с себя кофту.
— А где твоя родина? — спросил Рыжик.
— Я из Нижнего. Мещанин я сам. Моей душе дорога нужна, долгая, широкая дорога нужна… Я, голубчик ты мой, человек печальный… Во мне сызмальства большая грусть живет… И толкает меня печаль моя и не дает мне долго на одном месте сидеть…
Герасим говорил все тем же мечтательным, тихим голосом, а Рыжик внимательно слушал его и думал: «Какой он добрый да безобидный…»
— В Питер уж я третий раз прихожу, — продолжал Герасим. — В первый раз дядя принял хорошо. Служить к себе поставил, четыре целковых в месяц положил. Прожил я до весны, да и в Москву ушел… Во второй раз явился я сюда. Уж дядя, гляжу, серчает… Пожил маленько и пошел во Псков, а со Пскова в Варшаву… И вот в третий раз сюда явился. А дядя уж совсем осерчал… «Зачем шляешься? Зачем землю-матушку понапрасну ногами топчешь?» — спрашивает меня. А я, известное дело, молчу. Ну, тут дяденька и сказал мне, что я для него как бы чужой и ежели буду приходить ночевать, то платить должен… Я и плачу. И вот такой я шатун завсегда был. И чем я виноват, ежели печальный я человек?..
— Вот и мне вчера печально было, — заговорил Рыжик, — страсть как печально было… Холодно мне, а ночь долгая-долгая… Даже всплакнул малость. Обида меня взяла.
— Да, голубчик, горя на земле много, а доброты мало. Ежели б люди были добрые, никакого бы и горя не было… А ты сам откуда будешь? — неожиданно кончил Герасим вопросом.
Санька ответил не сразу. Он откашлялся, пальцами причесал красные кудри, успевшие отрасти после военной стрижки, и промолвил, стараясь заглянуть в лицо своему собеседнику:
— Я издалека. Я за лето в городах двадцати побывал.
— А по какой надобности? — спросил Герасим.
— Да вот по какой… Счастье искали мы, понимаешь? И опять же Полфунта потерял я… Теперь вот уж я не знаю, куда идти…
Последние слова Рыжик произнес тихим, упавшим голосом.
— А родом-то ты из какого города? — участливо продолжал расспрашивать Герасим.
Санька вместо ответа стал подробно рассказывать историю своих скитаний.
Долго рассказывал Рыжик, а Герасим безмолвно слушал его и только временами тяжко вздыхал и сочувственно покачивал головой. В ночлежке между тем становилось темнее. Из чайной, находившейся рядом, стали приходить ночлежники. Среди пришедших Санька узнал несколько человек, бывших в столовой.
— А, хлебокрад! — воскликнул один из них и ловким, привычным движением вскочил на нару.
Рыжик понял, к кому относится это восклицание, но сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал свой рассказ. Когда он кончил, ночлежка уж вся была набита оборванцами, и в комнате становилось душно, тесно и смрадно.
— Н-да!.. — протянул Герасим, выслушав до конца рассказ Саньки. — Человека, ежели он затеряется, трудно найти. Да и искать тебе этого самого Полфунта не для чего. Будешь ходить — он сам навстречу попадется, а искать — труд напрасный. И вот еще я что скажу тебе: уйду я скоро в Нижний, — вот потеплеет, и уйду. Дорогу я знаю, через Москву пойду, и ежели хочешь, пойдем вместе…
— Да я во как хочу! — воскликнул Санька и затрепетал от радости.
— Ну и хорошо! А до тепла как-нибудь проживем. Уж я двадцать лет так живу, а всего мне от роду тридцать пять. Вот и сосчитай: стало быть, пятнадцать мне было, когда землю-то топтать пошел…
— А из Москвы есть дорога на Житомир? — перебил Герасима Рыжик.
У него в голове зародились новые мечты и планы.
— От Москвы и до Москвы все пути по пути. Она, голубушка, всем городам указ и приказ. Вот какая она, Москва-то! — восторженно проговорил Герасим и улыбнулся доброй, детской улыбкой.
Рыжик ответил ему такой же улыбкой и как-то мгновенно заснул, растянувшись на наре возле Герасима. Как раз в это время сторож ночлежки, хромой и жалкий мужичонка в ярко-красной рубахе навыпуск, принес небольшую зажженную лампочку и повесил ее над дверьми. Тусклый, слабый свет разлился по комнате. В ночлежку вошел хозяин и стал с ночлежников взимать пятаки. Послышался звон монет, говор, спор и просьбы.
— Прохор Степаныч, будь отцом родным… Вот те Христос, принесу завтра!
— Ступай вон, у меня не богадельня! — слышался сухой, отрывистый голос хозяина.
— Голубчик, благодетель, Прохор Степаныч!.. Ведь холод, холод-то какой… Пропади я пропадом, ежели не принесу завтра…
— Да что вы насели на меня! — закричал хозяин. — Какой я вам благодетель?.. Пятака нет, а прет сюда, что в общественный дом… Вон, говорю, а то полицию позову!
Герасим видел, как с нар сошел тот самый старик, который в столовой рассказывал о том, как он навозом питался, и тихо направился к дверям.
— Злодей! Изверг! — закричал он, остановившись на мгновение перед хозяином. — Ты человека, как пса, на улицу выгоняешь… Так будь же ты проклят!
Старик взмахнул руками и вышел. А Прохор Степаныч вытер рукою бороду, усмехнулся и продолжал обходить голытьбу.
XIV
Тяжелый путь
Поздно ночью Санька проснулся сам не свой. Перед ним происходило что-то непонятное. Ночлежники, заспанные, рваные, жалкие, как безумные метались во все стороны, соскакивали с нар, подбегали к дверям, как будто искали спасения. Ужас моментально овладел Рыжиком, и он совершенно растерялся. Широко раскрытыми глазами глядел он вокруг себя и ничего не понимал. За дверьми ночлежки слышался топот множества ног, грубые голоса и какое-то странное позвякивание.
«Пожар!» — промелькнула мысль в голове Саньки, и он в одно мгновение вскочил на ноги.
А кругом шептали голоса: «Облава идет!.. Облава!..»
Рыжик видел, как некоторые ночлежники соскакивали на пол и заползали под нары.
— Что такое? Пожар? Да? — тревожно спросил он у Герасима, готовый при первом утвердительном кивке опрометью броситься вон из ночлежки.
Герасим, худой и бледный, в рваной кофте, стоял на наре и головой, казалось, подпирал потолок.
— Нет, голубчик, не пожар, а облава, — тихо ответил Герасим.
Санька заметил, что его новый друг чем-то сильно напуган.
— А это что такое — облава? — спросил Рыжик.
— Полиция пришла… Паспорта спрашивать будет… У кого нет, того заберут.
Невозможно передать, что сделалось с Санькой при последних словах Герасима. Его охватил какой-то непонятный ужас, и он весь загорелся желанием скорее куда-нибудь скрыться, спрятаться и, как многие ночлежники, заметался и забился, точно рыба в сети.
— Сойдем вниз, под нары… — торопливым шепотом проговорил он, подскочив к Герасиму. — Ну, что же ты стоишь?.. Идем, говорю, спрячемся.
И он насильно стащил друга с нар.
В ночлежку сразу вошло несколько человек. Рыжик, затаив дыхание, лежал под нарой за грудами человеческих тел. С большим трудом ему удалось пробраться к самой стене. Как он ни трусил, но любопытство заставляло его время от времени поднимать голову и выглядывать из своего темного угла. Рыжик видел одни только ноги, или, вернее говоря, сапоги вошедших людей. По этим сапогам он в уме строил разные догадки и предположения. Вот смело и уверенно прошли лакированные ботфорты со шпорами, в кожаных калошах. «Это ноги пристава», — догадывался Санька. А вот уж более тяжело следуют за ботфортами ярко вычищенные сапоги в глубоких резиновых калошах — это, по мнению Рыжика, ноги околоточного.
А вот показались и ноги городовых, большие, сильные, обутые в солдатские сапоги.
Ноги пристава остановились у самой нары, а вслед за тем раздался сильный, властный голос:
— Ты, што ли, хозяин?
— Так точно, ваше благородие! — отвечал тихий, слабенький голосок.
— На сколько человек у тебя помещение?.. Што? На сорок? А напихал-то ты сколько!.. Што? Я покажу тебе, каналья, как сто человек вместо сорока пускать…
Правый ботфорт топнул об пол. Зазвенела шпора, и в ночлежке наступила тишина. Рыжик слышал, как учащенно и тревожно стучали сердца у спрятавшихся под нарой оборванцев.
— Эй, приготовьте паспорта! — крикнул другой, какой-то простуженный голос, и ноги околоточного заходили вдоль нар.
Вслед за тем раздались чьи-то мольбы, жалобы и грозные окрики.