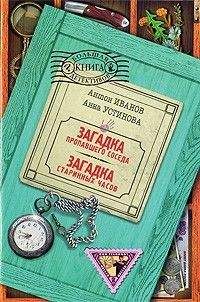Альфред Вельм - Пуговица, или серебряные часы с ключиком
«Младой Зигфрид, не зная страха, из замка скачет прямо в бой…» — поет, шагая, Генрих, но поет тихо, чтобы Комарек не слышал.
Хорошо сейчас идти! Белые облака расползлись, и открылось огромное синее небо. Фрау Пувалевски натянула над тележкой веревку, на ней развеваются пеленки. Генрих совсем размечтался. Он видит себя уже «младым Зигфридом», в руках у него громадный Зигфридов меч… Вот он в башне танка, ведет грозную машину. А там, впереди, уже слышен грохот сражения. На пути его стоят деревья, он валит их — только вперед! Вот дом — он рушит дом. Только вперед! Он один в своем танке, но его машина стоит тринадцати других. Враг силен. Генрих видит — сражение уже проиграно. Но он прицеливается — огонь! И первым же снарядом поджигает вражеский танк. Снова он командует: «Огонь!» Горит второй танк… третий… «За мной!» — выкрикивает Генрих, обращаясь к немецким солдатам. И немецкие солдаты, вновь обретая мужество, оказывают врагу ожесточенное сопротивление. Двадцать три танка уже подбил Генрих, однако враг не сдается… У Генриха удивительная машина! У нее такая броня, что ни один снаряд не может ее пробить, и пушка — пушка всегда попадает в цель. Нет, такого натиска враг не в силах выдержать. Он дрогнул, его охватывает панический страх, танки его разворачиваются и… удирают! Но он, Генрих, преследует их по пятам, подбивает один за другим. Но вот осколком ранит и его. Одну руку он держит на перевязи и все равно стреляет еще и еще…
Всю вражескую армию Генрих обратил в бегство. Теперь он сидит на раскаленной броне и отдыхает после боя. Подходят его товарищи, подходят офицеры, приветствуют, поздравляют, но он только небрежно машет рукой… и все.
Сам фюрер вручает ему рыцарский крест. «Мой фюрер! Пожалуйста, пусть и дедушка Комарек, и Рыжий сфотографируются с нами». Фотокорреспонденты опустили свои камеры, терпеливо ждут, пока явятся Рыжий и дедушка Комарек…
Это первый весенний день. Генрих идет и напевает песню о подвигах младого Зигфрида.
— Что с вами, фрау Пувалевски?
В руках у них горячие картофелины, они едят обжигаясь, а толстая Пувалевски сидит не двигаясь и смотрит в одну точку.
— Что случилось, фрау Пувалевски?
Генрих встает и бежит к ее тележке. Заглядывает. На куче тряпья лежит Бальдур.
— Он умер, что ли?
Трое ребятишек, держа в черных ручонках картошку и дуя на нее, кивают.
— Давно он умер?
Ребятишки кивают головой, продолжая жевать.
— Дедушка Комарек, дедушка Комарек! Бальдур умер!
Комарек будто и не слышит.
Хороший это был привал. Из деревни почти все жители ушли, в подвалах полно картошки — бери сколько хочешь!
Прежде чем отправиться дальше, Комарек зашел в один из брошенных дворов и вернулся уже с лопатой.
И опять колеса поют свою песенку. На небе — ни облачка!
Дорога ведет через бревенчатый мост. На берегу ручья стоят две старые ивы.
— Стой! — приказывает Комарек.
Все останавливаются, стоят и молчат, покуда он выкапывает квадратик в земле.
Бальдура положили в картонку. Комарек стал на колени, чтобы удобнее было спускать картонку в яму.
Фрау Сагорайт выступила вперед, чтобы сказать речь.
— Фольксгеноссен!..
— Заткнись! — взорвалась фрау Пувалевски.
Фрау Сагорайт замолчала и спряталась за спины остальных.
Старый Комарек закопал ямку. Фрау Пувалевски так и осталась стоять под ивой, не проронив ни единой слезы. Сестры-двойняшки сидели рядышком и перешептывались, изредка опуская руки в старую кожаную сумку. Слышно было, как стучали комья земли, как шептались сестры и как высоко в небе пел жаворонок.
— Что ж, пошли… — сказал старый Комарек.
12Порой Генрих засматривается на косяки диких гусей. Кажется, что они кричат ему что-то сверху. Они ведь тоже в пути! Но они летят на северо-восток и на восток…
Мальчишка вспоминает те дни, когда они ехали с Ошкенатом по бесконечной косе. Барон частенько прикладывался к охотничьей фляге и потом долго не мог засунуть ее в карман шубы. Однако всякий раз, перед тем как сделать глоток, он обращался к матери Генриха и говорил:
«С вашего разрешения…»
Они ехали мимо жиденького соснячка, но Ошкенат почему-то принимался расхваливать его:
«Какой лес! Корабельные сосны!»
«Настоящие корабельные, господин фон Ошкенат».
«А скажи-ка мне, Генрих, чей эта такой прекрасный лес?»
«Господина фон Ошкената», — отвечал он.
Довольный Ошкенат кивал, поглядывая на жиденькие сосенки.
«А чей же это луг, Генрих? Смотри, какой прекрасный луг!»
Никакого луга не было: это залив глубоко врезался в косу, лед был покрыт снегом, и от этого действительно могло казаться, что впереди заснеженный луг.
«Правда, прекрасный луг, господин фон Ошкенат».
«А скажи-ка мне, Генрих, чей же это такой прекрасный луг?»
«Господина фон Ошкената, — отвечал он и, показывая на залив, добавлял: — «Все здесь принадлежит господину фон Ошкенату».
«Скажи, пожалуйста, какие прекрасные луга у господина фон Ошкената!»
И все было как раньше, когда они ездили в Роминтенскую пустошь. Только и слышалось: «Господину Ошкенату… Господину Ошкенату!»
Мать Генриха сидела рядом и улыбалась.
«Сын мой, а по-французски ты еще умеешь?» — спрашивал Ошкенат.
И Генрих вспоминал, как Ошкенат учил его говорить по-французски.
Они сидели тогда в гостиной и учили одни и те же слова. Генрих делал элегантное движение рукой и говорил:
«S’il vous plait, madame!»
Однако Ошкенат вечно бывал недоволен Генрихом.
«Грациозней, Генрих! Грациозней! — Толстяк вскакивал и принимался показывать, как надо кланяться и как надо делать рукой, и говорил: — S’il vous plait, madame!».
«S’il vous plait, madame», — говорил Генрих, встав в коляске, кланялся и разводил рукой.
«В Вуппертале, Генрих, когда приедем в Вупперталь, я тебя опять буду учить французскому».
Люди с завистью поглядывали на коляску Ошкената. Мальчишке это было приятно.
Наутро все преображалось.
Ошкенат нервно шагал взад и вперед. То и дело набрасывался на кучера и, дергая за постромки, повторял: «Это мои кони. Моих коней вы загнали!» Женщины и дети слезали с фур и шли дальше рядом.
Часа два в тесной коляске царила гнетущая тишина. Но вдруг Ошкенат снова хватался за плоскую флягу и, толкая кучера, говорил; «Глоток! Один только глоток! С желудком у меня что-то». Но кучер уже наливал флягу до самого горлышка.
И очень скоро вновь наступало преображение. Ошкенат уже опять говорил: «Рикардо» и «мадам».
«В чем дело, Рикардо? Почему мои люда идут пешком? В чем дело? Неужели тебе неизвестно, что я не люблю, когда мои люди идут рядом с фурами?»
Кучер подавал знак, и женщины и дети вновь залезали на повозки. Откинувшись на спинку, Ошкенат снова любовался мелькавшими мимо соснами.
«Прекрасный лес, господин фон Ошкенат!»
«А ты помнишь, Генрих, как мы с тобой невод ставили?»
«Очень даже хорошо помню, господин фон Ошкенат».
«Не говори «фон Ошкенат», говори просто «Ошкенат».
«Хорошо, господин Ошкенат».
«А ты помнишь, как мы с тобой линей ловили?»
«Это за Куметченом, господин Ошкенат? Очень даже помню».
Рыбака, которого звали «дядя Макс», забрали в солдаты. И Ошкенат велел позвать Генриха. Вдвоем они вырезали из старой сети неповрежденные куски и соорудили нечто вроде невода.
«С первого же захода мы с тобой тогда четырнадцать центнеров взяли».
«Четырнадцать с половиной, господин Ошкенат».
«А ведь ты прав. Даже больше четырнадцати было. Верно-верно».
«Чуть что не пятнадцать».
«А щука? Генрих, помнишь, какую мы щуку поймали?»
И впрямь однажды им удалось поймать крупную щуку. Тринадцать килограммов она весила. И была совсем зеленая. Только гораздо светлее обычных.
«Во была щука, господни Ошкенат!»
«Кабан, а не рыба!»
«Мы ее и сачком не могли взять», — сказал Генрих. Однако про линей это была неправда. Генрих хорошо помнил, что у них в сачке оказалась одна молодь и пришлось ее всю выпустить.
«Хороший был улов. Сколько, ты говоришь, мы тогда линей взяли?»
«Девятнадцать с половиной центнеров, господин Ошкенат».
Так они ехали с Ошкенатом четыре дня. На пятый день мама отказалась садиться в коляску. Они долго стояли на обочине, пока их не подобрал солдатский грузовик. Солдаты дали им много одеял, и мама очень много спала, а когда просыпалась, то все убирала пушинки с одеял. И лицо у нее было очень красное.
«Знаешь, Генрих, — говорила она, — так бы и не просыпалась я».
Генрих сейчас хорошо помнит и то горячее чувство, которым он тогда проникся к маме. Он хотел сесть с ней рядом, хотел прижаться к маме. Ему хотелось быть очень ласковым и добрым, говорить что-то очень хорошее. Но кругом были солдаты, и он не смел.