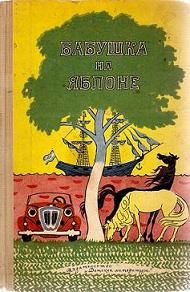Пит Рушо - Итальянский художник
Опера завершалась фейерверком, бабахали ракеты и хлопушки, пороховой дым застилал всё вокруг, и театр исчезал среди огней и темноты. Куклы выходили на поклоны, грохотал марш пастушек и трубочистов, улетал в тёмное небо последний Арлекин, клетчатый в чёрных ромбах, сбегала Мирандолина, капельдинеры с факелами бросались её ловить, сквозь люк на сцене проваливался тамбурмажор, гремел салют, рушились пилястры кулис, таял во тьме занавес. Все пропадало, дым рассеивался, и закопчённый канонир-фейерверкер, гулко ударяя досыльником в пол, объявлял представление оконченным.
Публика кричала браво, но площадь была пуста, и сцена, похожая на эшафот, которая только что была у всех перед глазами, не существовала больше. Оставались только неслышные слова, громыхание крахмальных подолов, запах духов и чувство, что печаль отступила, что-то изменилось в жизни навсегда, и всё не было так напрасно, как казалось ещё час назад. Браво — кричали дамы и кавалеры, но город был пуст. Ночь, чёрная как апельсин-королёк, разрезалась звонким боем башенных часов, красавицы покидали балконы окрестных улиц, и паланкины с фонариками меркли вдали.
Мы вернулись в поместье перед рассветом. Во флигеле отчима зажегся огонь. Мателиус вышел на крыльцо в халате с лампой в руке. Он был в бешенстве. Было видно, что он вне себя от ярости, но он мочал.
— Только наука, только точные знания, — сказал Мателиус на следующий день за завтраком, когда ярость его улеглась, — только они могут помочь. Глупо искать корни своей души в балаганном представлении. Отнеситесь к себе свысока.
И я вдруг почувствовал, с какой любовью он смотрит на сеньору Миту. Раньше я не подозревал, что такие чувства возможны. Это было одно из самых сильных потрясений моего детства.
Мы несколько раз в это лето ездили с сеньорой Митой в Фальконару и Анкону. Думаю, что наши поездки не были занятием пустым. Некоторые события тех дней оставили во мне глубокое впечатление. И ещё неизвестно, кому из нас эти переживания были нужнее: сеньоре Мите или мне. Я помню, как мы ушли с ней со спектакля в здании оперы после первого действия.
Торина — креолка с фиалковыми губами, большими и мягкими, как морская раковина перед рассветом, приплывала из Новой Индии. Тысяча чёрных рабов в белых набедренных повязках гребла красными вёслами, галера с золотой фигурой Афродиты на штевне причаливала среди голубых шёлковых волн к жёлтому медовому Кипру из папье-маше. Среди колонн с сахарными прожилками, как на халве, среди сиреневых стволов пальм и глянцевых лавров, по ступеням дворца навстречу ей спускался чернобородый маг в красной мантии и пурпурной тиаре, с золотыми браслетами на крепких ногах в сандалиях из бежевой кожи яловой буйволицы. Алхимик и чародей Мардусерт выступал в сопровождении львиц, пантер, красавиц, детей с крылышками в цветочных венках и флейтисток верхом на удавах; набухали, вздрагивали в воздухе прозрачные ариэли и сильфиды, дымились курильницы. Двухголовый великан, звеня монистами, пел: я люблю эти снежные горы на краю мировой пустоты. Военный вавилонский оркестр с глазами, подведёнными тушью из желчи осьминога, в парчовых халатах выходил на крышу дворца, заросшую цветущими маками, бил барабан, вспархивали ночные бабочки. На бирюзовых минаретах зажигались красные костры. Оловянные звёзды всходили на лоскутном тёмном небе, а злой волшебник Кардамон строил в темноте козни, кусал седую бороду, дребезжал склянками с ядом. Кардамон замышлял недоброе, пылая преступной страстью к красавице Торине, то вспыхивал голубым эфирным пламенем, то надевал шапку-невидимку и исчезал вовсе.
— Торина, я сделаю тебя бессмертной, — говорил маг, и широким малахитовым ножом вырезал сердце из своей груди. Алая морковная кровь лилась струями, в первых рядах визжали барышни, и плюшевое мягкое сердце билось в могучей руке алхимика.
— Пойдём отсюда, Феру, — шёпотом сказала мне на ухо сеньора Мита, — тебе нельзя смотреть этот вздор.
Потом мы сидели уже ночью на площади посреди Анконы и ели фисташковое мороженое. Перед нами на белой каньёвой скатерти горели свечи в стеклянных круглых колпаках. Серебряные глаза сеньоры Миты потемнели, обрели глубину, приняли грустное и, как мне показалось, очень нежное выражение. Она смотрела на эти свечи в стекле и думала о чём-то своём.
— Бессмертие — какая наивная глупость, — сказала она, — душа и так бессмертна, важна душа. Если будет душа, и в ней откроется хоть маленькая дверца, хоть щёлочка, — она застеснялась и не договорила.
— Умеешь так? — вдруг нахально спросила она, положила ложку на стол, вылизала креманку из-под мороженого длинным хрустальным языком и подмигнула мне со зверским выражением. На неё уставился какой-то господин в цветочном бархате и позументе, сидевший через столик от нас. Он не мог отвести от неё глаз.
— Клаус! — негромко позвала сеньора Мита, когда цветочный бархатный незнакомец поднялся и сделал шаг в нашу сторону. Кривоногий кучер Клаус вырос как из-под земли перед несчастным ловеласом.
— Мой очаровательный господин, — приторным угрожающим тоном сказал Клаус, показывая господину кончик шила, торчавший у него из кармана, — мой господин, позвольте, я провожу вас до дома. Это обойдётся вам всего в десять су.
После этих слов господин убежал, а кучер Клаус снова исчез.
Одно из наших путешествий в Анкону было страшнее прочих, в тот раз нам пришлось заночевать в гостинице.
Нашествие старух на город началось в три часа дня. Когда после третьего удара колокола из собора святого Мартина вышел епископ Игмередих и поднял руку для благословения, никто не обратил на него внимания; люди смотрели на серую старуху, сидевшую на ступенях церкви. Старуха прижимала к груди иссохшегося младенца, сделанного из глины и земли. Из головы мертвой куклы торчали соломинки и мелкий мусор. Старуха сняла вонючий башмак, вынула из ноги червяка и посмотрела перед собой белыми слепыми глазами. Она некоторое время бубнила что-то и хихикала, а потом сказала вполне отчетливо, шамкая беззубым ртом и шевеля волосатым подбородком: забыли родителей своих. Старуха ударила земляным младенцем по ступеньке, младенец рассыпался, куски глины выпали из рваных пелёнок.
— А мама напомнит о себе, дотянется и до ваших детей, приласкает их. Вот я милостыньку насобирала, гостинчик вам припасла. Старуха когтистой рукой развязала свой грязный кошелёк у пояса и стала разбрасывать мелкие птичьи косточки.
Милому дитяти
Некуда бежати —
Сладко ему спати
На моей кровати, —
проговорила старуха, челюсть её отвисла, и стало ясно, что она мертва.
Кареглазый, до голубой синевы выбритый, с чёрными усами, шёл поедатель кошачьего мяса и любитель рыбьей требухи, крепкий артиллерист Ардамино, в венецианском шейном платке с голыми русалками, в карминно-красном мундире с салатовыми обшлагами, с золотой палкой в руке; артиллерист Ардамино привёл старух в город. Старухи шли за красным кафтаном нестройной толпой и вскоре заполонили город. Старухи были без ума от Ардамино, остальные люди для них не существовали, они с ненавистью набрасывались на испуганных детей, дрались с молодыми женщинами и норовили укусить или толкнуть всякого встречного. Они разграбили городской рынок. Многие объевшиеся старухи умерли, и рыночная площадь, фонтан с осетрами, улицы между церковью Троицы и домом ветеранов вплоть до моста Чемунетти заполнились трупами. Старухи ломились в двери домов, швырялись песком и камнями, сдирали с себя одежду. Они подожгли склады кондитерской мануфактуры на левом берегу Ченти, разграбили монастырь Сан-Марко, напяливали на себя церковные облачения и вставляли драгоценности вместо глаз. Жирными чёрными нитями сахарная сажа падала с неба, и воздух наполнился конфетной гарью, сделалось темно от копоти, стражники с зажжёнными факелами отгоняли алебардами безумных женщин от герцогского дворца, шипело пламя сырой смолы, тлела пакля, испуганные торговцы и менялы закапывали прозрачные бриллианты в садах под клумбами отцветших нарциссов. «Покайтесь в юности вашей», — кричала косматая ведьма, размахивая дохлой вороной на длинном шесте. Городские женщины, потеряв разум, присоединялись к ним, они выбегали с хриплым хохотом и слезливыми причитаниями, эти новые старухи были наиболее опасны. Они падали в реку, молча тонули, и кое-где было видно в мутной воде Ченти, как они продолжали идти по грязному дну, пока их не подхватывало течением и не уносило в сторону моря.
Вслед за старухами в город вошли жуки-могильщики. Они ползли пёстрыми потоками, забираясь во все щели и дырки, и пожирали всё, до чего могли добраться. Жуки обглодали старушечьи трупы, к вечеру от них остались груды тряпья и белые кости. К ночи город опустел, и до рассвета ни один житель не осмелился выйти за ворота. Повешенный артиллерист Ардамино болтался на перекладине перед балконом донны Марии делла Кираллино в красном мундире и загаженных белых панталонах. Раздувшееся его лицо с вывалившимся языком было иссиня-чёрным. На мостовой под ним сидела босоногая девочка, она играла на гармошке и пела песенку про Маруччеллу, она пела про глубокое море в глазах этой Маруччеллы и про волнение в чьей-то груди. Это была дочка карандашного мастера.