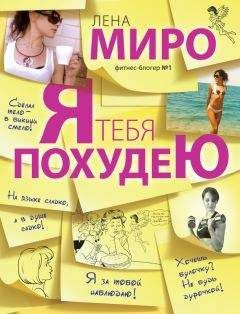Андрей Шманкевич - Боцман знает всё
Смотрю, орешник ещё держится, ещё цепляется корнями за землю, но треплет его как в хорошую бурю. Схватился я прямо за леску, повернулся спиной к реке и потащил щуку волоком, по-бурлацки. Мне нечего было терять: лодка выбралась из суводи и взяла курс на Тарусу.
Уже в сумерках выволок я свою добычу на берег. Щука к тому времени даже хвостом не шевелила. Выдрать блесну у неё из глотки я уже не смог — сам тоже еле шевелился. Просто ожёг леску папиросой.
Завязал я в палатку всё имущество, запихал щуку в рюкзак и потопал вниз по матушке Оке, по бережку, где по тропочке, где прямо через кусты. Иду и проклинаю и страсть свою рыболовную, и пеньки с корнями…
А река, как назло, точно вымерла: ни лодки рыбацкой, ни моторки бакенщика. Плывёт моя лодочка по самой середине Оки: то носом ко мне повернётся, то кормой с мотором.
Когда огни Тарусы были совсем рядом и я уже не мог точно сказать, какой я в тот момент ступаю ногой, правой или левой, на помощь мне пришла стихия: с противоположного берега реки налетел такой шквал с дождём, что через десять минут моя беглянка очутилась у моих ног!
Я хохотал на всю Калужскую. Я плясал, как в молодости. Я сбросил рюкзак, припал на колено и поцеловал торчащий из рюкзака щучий хвост.
Мне так начало везти, вероятно, за всё пережитое, что «Чайка» зарокотала, как только я к ней прикоснулся! А в Тарусе и того больше удачи привалило: меня ждала, как говорят моряки, «под парами» новенькая «Волга». И не до Серпухова, а до самой Москвы, до самой квартиры!
«Ты же обещал, Лёнька!»
Серафим ходил вдоль забора и занимался последним делом — отыскивал в заборе большие и малые щели и дыры. Автор просит понимать слова «последним делом» не в смысле «плохим», а последним по счёту. Этим заканчивалось строительство ограды его владений. Он ходил по своему собственному двору вдоль нового забора и щели с дырами отыскивал на предмет их полной ликвидации. Что же тут плохого? Отыщет и мелком отметит, чтобы потом одним заходом все их ликвидировать…
А вот Лёнька, сосед Серафима слева, занимался тем же самым с другой стороны забора, но, обратите внимание, совсем с другими намерениями: он и не помышлял заниматься потом плотницкими делами. Больше того — он предпринимал некоторые действия, в результате которых одна из дыр (это была дыра на месте вывалившегося из доски сучка) стала бы значительно больше. За этим занятием он и был захвачен Серафимом.
— Это… это что такое?.. — воскликнул задохнувшийся от негодования хозяин подворья, увидав кость, производившую в вышеупомянутой дыре вращательные движения.
Кость моментально исчезла, и Серафим, изогнувшись вопросительным знаком, заглянул на сопредельную сторону. Лёнька уже стоял на середине своего двора. В одной руке он держал своё орудие разрушения — баранью кость, остаток сегодняшнего жарко́го, а из большого пальца второй руки пытался, по-видимому, высосать ответ на грозный вопрос Серафима.
— Я тебя спрашиваю: ты зачем это забор ломаешь? Шалопай… — зашипел Серафим.
Услышав знакомое слово «шалопай» (он часто слышал его от соседа, когда ещё не было этого монументального забора), Лёнька заметно успокоился. Теперь он наверное знал, что за забором находится всё тот же Серафим, похожий одновременно и на гусака и на лягушку, потому что у него была жабья морда, посаженная на гусиную шею.
— Я собачку хотел покормить… — сказал Лёнька.
— Что? Собачку покормить? Я тебе покормлю!.. Заимейте своих и кормите… А моих не сметь трогать!.. — прорычал Серафим.
Услышав такое, Лёнька мужественно заревел, то есть заревел про себя. Наружу он выпустил только бриллиантовые слёзы, а звуковое оформление зажал в груди, хотя рыдания распирали её так, что хоть обручи набивай. Но Серафим напрасно подумал, что это он так допёк Лёньку. Все остальные его слова Лёнька пропустил мимо ушей, и только два слова разбередили его: «Заимейте своих…»
Разве же знал Серафим, что Лёнька с того самого дня, как научился сознательно отличать собаку от кошки, пылал желанием иметь собственного щенка. В колясочном возрасте он вполне удовлетворялся щенком, сшитым из отходов какой-то фабрики верхнего платья, но с годами такой щенок, не выросший в собаку, но полысевший и подурневший, получил у хозяина почётную отставку: он и теперь хранился в Лёнькином ящике под кроватью, но спать с ним в обнимку Лёнька уже не мог. Он понимал, что такую собаку пограничникам не пошлёшь. Но о живой собаке, о настоящем Джульбарсе, не приходилось и мечтать: мать была категорически против по разным санитарным соображениям.
Двухметровый забор сплошняком, увенчанный поверх в четыре ряда колючим проволочным заграждением, вырос раньше, чем появился на дворе у Серафима полугодовалый щенок-овчарка.
Однако забор не помешал, и знакомство Лёньки с Рексом состоялось. Лёнька за обедом специально отбирал косточки поменьше, чтобы они пролезали в дыру, и старался их сам особенно не обгладывать. Он бы мог просто перебрасывать кости через забор, но это было бы совсем не то; ему хотелось кормить Рекса с рук… Всё было налажено, и вот теперь на пути их дружбы стал Серафим.
Для Лёньки, ещё не познавшего мир со всеми его сложностями, ещё не умеющего распознавать плохих и хороших людей, сосед Серафим казался человеком странным и загадочным, не от мира сего. Впрочем, и более взрослое население этого полудачного пригородного посёлка считало Серафима и его супругу Стешу, дородную женщину, с такими пухлыми губами и щеками, будто она только тем и занималась, что дразнила на пасеке пчёл, людьми давно минувших дней. Никто в посёлке не называл их по имени-отчеству или даже по фамилии. Называли просто Серафим и Стеша. Этого было вполне достаточно, так как разговаривать с ними никому не приходилось — они ни с кем не водили знакомства.
Соседи по голосам определяли их, когда они разговаривали в своём добровольном «концлагере». Если они слышали высокий бабий голос, то говорили, что это Серафим отчитывает Стешу. Узнать Стешу было ещё легче. По утрам, воспрянув ото сна на часок позже самого Серафима, она выходила на крыльцо и голосом, в котором было столько меди и чугуна, что он был способен заглушить голос Царь-колокола, будь тот пригоден к делу, звала своего супруга. В такие минуты соседям чудилось, что зовёт Стеша не своего земного Серафима, а Серафима небесного. Лёньке в такие минуты было страшно жалко Рекса. Собака пугалась так, что поджимала хвост к самому животу…
Серафим и Стеша перебрались в этот дом уже на Лёнькиной памяти. Раньше они только наведывались сюда из города к матери Серафима. О самой старухе сынок и невестка особой заботы не проявляли — вся забота была направлена на поддержание в хорошем состоянии родового гнезда. То вдруг привозилось кровельное железо и заново перекрывалась крыша, то доставалась краска и перекрашивались стены, менялись наличники…
— Заботливый у вас сынок… — говорили старухе.
— Беда какой заботливый… — соглашалась она усмехаясь. — Да только я тоже заботливая… Саван сама себе сшила, чтобы сынок в одной сорочке в гроб не уложил…
Покойница трезво смотрела на вещи: хоронил её Серафим с энтузиазмом, но не по первому разряду. Глазетового гроба не было, оркестр за подводой не шёл…
И точно затем, чтобы укрыться от неодобрительных взглядов соседей, принялся Серафим сразу же по переезде возводить вокруг своей усадьбы высоченный забор с проволочной надбавкой. Отгородились супруги и от весёлой поселковой улицы, и от соседей, и от лесной зелени на задах, и от озерка, что лежало в лесу. Будь возможность, и от неба, пожалуй, отгородился бы Серафим…
— А сторожевые вышки по углам вы не собираетесь ставить? — спросил Серафима Лёнькин отец. Не очень-то было ему приятно видеть теперь постоянно из своего окна такой забор с колючей проволокой.
Прямым ответом Серафим его не удостоил, но посоветовал «переменить квартиру», если ему «вид не нравится». А он, Серафим, хочет жить «так, как хочет». До остальных ему дела нет…
И начали Серафим и Стеша жить так, как хотели, так, как давно, наверно, мечтали. Сторожевых вышек они не построили, но сторожевых собак завели. Сначала появился тот самый Рекс, к которому так тяготел Лёнька, потом привёз Серафим из города и вторую овчарку. Если Лёнька мечтал вырастить собаку и послать её на границу, то Серафим, приобретая собак, думал только об охране границ своей собственной территории. Поэтому воспитывал он своих пёсиков в духе лютой ненависти ко всему живому, так, что они даже на галок и воробьёв щерились. По той же причине кричал Серафим всякий раз на Лёньку, обнаружив на своём дворе обглоданные кости, и швырял этими обглодками в собак.
Лёньке-несмышлёнышу казалось, что соседи его оттого злятся и от людей прячутся, что никто их в посёлке не любит, а мы-то люди взрослые и понимаем, что таких людей как раз за то и не любят, что они от людского глаза стараются укрыться. Тут сразу думается, что, видно, совесть у таких не чиста.