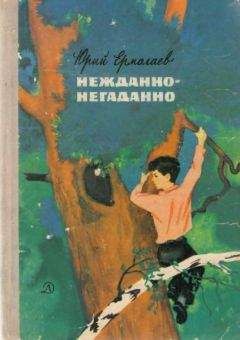Борис Раевский - Товарищ Богдан
Не уловив насмешки, жандарм, гремя заслонками, до плеча засунул руку в трубу, долго шарил там и вытащил ее всю в саже.
Бабушкин не смеялся. Только взгляд его выражал презрение. Шелгунов тоже молчал. А если и смеялся, то одними глазами, прикрытыми, словно плотными шторами, черными стеклами очков.
Наконец, когда за окном уже рассвело, обыск, длившийся пять часов, кончился.
— Собирайсь! Все собирайсь! — скомандовал подполковник.
— Неужто и дочку брать с собой? — спросила Прасковья Никитична, когда ей приказали следовать в тюрьму. — Может, соседке оставить?
— С собой! Обязательно! — воскликнул подполковник и, предчувствуя возражения, выкатив глаза, гневно заорал: — Ма-алчать!
Иван Васильевич крепко стиснул руки за спиной.
— Бери дочку, Прасковья, — тихо, едва сдерживая гнев, сказал он. — Заверни потеплей важного «государственного преступника»!
Уже не первый раз сидел Бабушкин в тюрьме. Он знал: главное — не опускаться, не раскисать, держать себя в руках. Иначе в темной, сырой одиночке недолго и сойти с ума.
Десять месяцев провел Бабушкин в камере петербургской предварительной тюрьмы. Это была сводчатая каменная клетушка, с квадратным, чуть побольше носового платка, окошком, забранным частой решеткой, с железным откидным столиком и железным стулом.
У узника была жестяная миска для супа, жестяная тарелка для каши, деревянная ложка. Ножа и вилки узнику не полагалось, чтобы не вздумал покончить с собой или напасть на тюремщика. И подтяжки у него отобрали: чтобы не повесился.
Каждое утро он делал зарядку, аккуратно застилал свою наглухо привинченную к стене койку, мылся тепловатой, противной водой и заставлял себя три часа в день ходить взад-вперед по тесной камере.
Надзиратель часто наблюдал за ним в дверной глазок-волчок. Узник всегда казался спокойным, а получая пищу, даже шутил.
Иногда он вполголоса запевал свою любимую песню о безработном:
Быть тунеядцем не хочу,
Я не изнежен барской спячкой.
И чтоб идти просить подачки
С лукавой лестью к богачу,
Помимо честного труда, —
Нет, не решусь я никогда!
Находясь долгие годы в могильной, сводящей с ума, безысходной тишине одиночной камеры, заключенный отвыкает даже от собственного голоса. И Бабушкин с любопытством прислушивался к своему пению. Голос казался ему чужим — глухим и надтреснутым.
«Мерещится! — отгоняя уныние, внушал себе Иван Васильевич. — Просто этот каменный мешок искажает звуки. Надо побольше петь и говорить вслух. А то, рассказывали, в Шлиссельбургской крепости „одиночники“ после нескольких лет заключения даже самые простые слова забывают…»
И он еще бодрее продолжал петь:
Дитя фабричной голытьбы,
По вечерам, закрывши глазки,
Не слушал я забавной сказки,
Как внемлет баловень судьбы,
Который ласкою согрет,
Всегда накормлен и одет.
«В одиночке — и поет! Крепкий мужик!» — удивлялся надзиратель.
Он отодвигал засов, открывал тяжелую дверь и строго говорил:
— По тюремной инструкции петь не положено.
— А дышать положено? — насмешливо спрашивал заключенный.
Он начинал приседать, подпрыгивать, потом широко разводил руки в стороны, делая глубокие вдохи и выдохи: комплекс дыхательных упражнений по Мюллеру.
Надзиратель смущенно уходил.
«Как идут дела на воле? — долгими часами думал Бабушкин. — Состоялся ли Второй съезд партии? Удалось ли Ленину сплотить всех настоящих революционеров вокруг „Искры“? Знает ли Владимир Ильич о моем аресте?»
Меряя камеру шагами, он беспокойно думал:
«А что с Шелгуновым? Отпустили его жандармы или — полуслепого — тоже упрятали за решетку?»
Бабушкин не знал, что Шелгунов уже не в тюрьме: охранка выслала его обратно в Баку.
Очень тревожился Иван Васильевич за свою жену и особенно за дочку. Что с ней? Неужели до сих пор томится где-то тут же, в сырой камере? Бабушкин знал свирепые нравы жандармов, но все же надеялся, что ведь и они — отцы, и у них есть дети, не станут они держать грудного младенца в тюрьме. Между тем шел месяц за месяцем, а от жены не было никаких известий.
Неимоверно тяжело сидеть в глухой, темной одиночке. Зимние дни коротки, а в этом каменном мешке почти всегда сумрак. Часы у Бабушкина отобрали в тюремной канцелярии. То ли утро, то ли вечер — разбери! Только сигнал «подъем» в 7 утра, да поверка, да кое-какие другие привычные церемонии тюремного режима отличали утро от вечера.
Первые три месяца Бабушкин считал дни, делая царапины на стене, потом бросил — к чему?
И только два живых существа — кроме надзирателя — регулярно появлялись в камере «государственного преступника» — крысы.
Каждую ночь две тощие тюремные крысы вылезали из дыры возле трубы парового отопления. Бабушкин, лежа на койке, наблюдал, как в призрачной лунной полоске на асфальте медленно бродят они, уныло волоча по полу длинные, голые, похожие на бечевки, хвосты.
И вспоминалось, как лет семь назад впервые попал он в тюрьму. В эту же питерскую «предварилку». И как точно так же бродили тогда по асфальту две тощие крысы. Машка и Щеголиха.
«А может, это они и есть?!»
Бабушкин усмехнулся.
Внимательней пригляделся к зверькам. Да, одна крыса вроде бы потолще, добрая и ленивая. Неужели это и впрямь та самая Машка? А другая — поменьше. И усы подлиннее. Только вот Щеголиха любила то и дело лапками умывать мордочку, приглаживать усы, словно охорашивалась перед зеркалом. А эта не имеет такой привычки.
«А может, просто состарилась, бросила кокетничать?!» — усмехнулся Бабушкин.
Вряд ли, конечно, это были те самые крысы, но узнику все же приятно было думать, что видит старых знакомцев.
Единственное, что скрашивало Бабушкину пребывание в тюрьме, — перестукивание с другими заключенными.
Ленин не раз говорил своему ученику:
— Профессиональный революционер должен уметь обмануть врагов, перехитрить их, должен никогда не падать духом.
Ленин научил Бабушкина тюремной азбуке.
Чтобы пользоваться ею, надо обладать большим терпением.
Весь алфавит разбивается на четыре ряда, в каждом — шесть букв:
а б в г д е
ж з и к л м
н о п р с т
и так далее.
Стучат так: сперва — номер ряда, пауза, потом место буквы в ряду. Например: буква «е» — один удар, пауза, шесть ударов; буква «л» — два удара, пауза, пять ударов.
Всего в «тюремном телеграфе» 24 буквы, гораздо меньше, чем в русском алфавите. Это потому, что подпольщики для упрощения выкинули «ненужные» буквы, вроде «ь», «ъ», «й».
Долог и утомителен перестук. Одно слово отнимает уйму времени. А бывает, сосед недослышит, перепутает — начинай все сначала.
Ивану Васильевичу пригодились уроки Ленина.
Как только Бабушкина поместили в «одиночку», он сквозь толстые тюремные стены стал налаживать связь с соседними камерами. Сделать это было не просто. Ведь неизвестно, кто сидит за стеной. Может быть, нарочно подсунутый шпик?
Бабушкин выстукал в камеру справа:
«К-т-о?»
Ответ пришел сразу — «Костя». Бабушкин знал: «Костя» — это подпольная кличка Щеглова. Но может быть, за стеной не Щеглов, а кто-то «работающий под Щеглова»?
Бабушкин устроил проверку.
«К-о-г-д-а, г-д-е м-ы п-о-з-н-а-к-о-м-и-л-и-сь?» — выстукал он соседу.
Тот через стену долго и подробно описывал, как они первый раз встретились в воскресной школе, на уроке Крупской, и как была одета Надежда Константиновна. Рассказал даже про большую икону Георгия Победоносца, висевшую в классе, на которой у белого жеребца валил из ноздрей, как из паровозной трубы, черный дым.
Все было правильно. Но Бабушкин на всякий случай задал еще один контрольный вопрос:
— К-а-к з-о-в-у-т м-о-ю ж-е-н-у?
Сосед ответил сразу: «Прасковья Никитична». Сомнений быть не могло: это действительно Щеглов.
А тот, с помощью подобных же вопросов, убедился, что рядом сидит именно товарищ Богдан.
Медленно, буква за буквой, передали заключенные друг другу сквозь толстые стены вести с воли. От Щеглова Бабушкин узнал, что борьба ленинцев с провокаторами и внутрипартийными изменниками подвигается успешно. Из камеры слева, где сидел уголовник Федька Хлыст, Бабушкин узнавал о тюремных событиях: кто из узников объявил голодовку, кто выпущен, кого избили на допросе.
Медленно, час за часом, день за днем, неделя за неделей, тянулись долгие десять месяцев пребывания Бабушкина в одиночной камере.
Однажды уголовник Федька Хлыст в неурочное время тихо, отрывисто постучал в стену Бабушкину.
Иван Васильевич прислушался. Это были позывные. Сейчас начнется передача. И действительно, повторив условный сигнал, Федька Хлыст начал выстукивать: