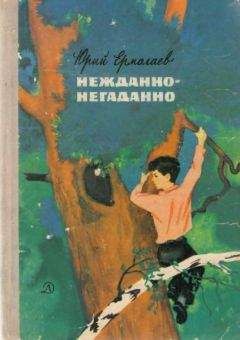Борис Раевский - Товарищ Богдан
«Нет ли „хвоста“?»
Он остановился у магазина, словно внимательно рассматривая лежащие на витрине сверкающие кольца, часы, брошки, портсигары.
Краешком глаза быстро оглядел улицу. И тотчас его наметанный взгляд вырвал из толпы пестрой гуляющей публики невысокого, неприметного, щупленького человека с тросточкой.
Как шпик очутился здесь? Ведь Бабушкин так старательно заметал следы!
Раздумывать было некогда. Ясно одно: подходить к матери теперь ни в коем случае нельзя.
«Надо немедленно перейти улицу, подумал Бабушкин. — Или свернуть в переулок…»
Это напрашивалось само собой.
Но тут, может быть, впервые за долгие годы настороженной, тревожной жизни, Бабушкин нарушил правила конспирации. Он понимал: идти навстречу матери опасно и неблагоразумно, и все-таки шел.
«Не остановлюсь, не заговорю с ней, — подумал он. — Только пройду мимо. Взгляну — и все».
Мать, конечно, не узнает его. Ведь прошло долгих семь лет.
Тогда он был еще совсем молодым. А теперь на нем сшитый на заказ, добротный костюм, котелок. И обычная краснота воспаленных век скрыта слоем крема. А в руке — внушительная кожаная папка.
С каждым шагом расстояние между ним и матерью быстро сокращалось. Иван Васильевич уже хорошо видел и ее глаза, и с детства знакомую родинку на правой щеке, и светлые, словно выгоревшие, брови. Он уже почти вплотную подошел к матери и тут допустил еще одну оплошность.
Ведь он отлично знал: можно как угодно изменить свою наружность, переодеться, приклеить бороду, перекрасить волосы, но глаза изменить невозможно. Он же сам учил молодых подпольщиков: если при встрече со знакомым человеком хочешь быть неузнанным, — не смотри ему в глаза.
А тут — мать.
Подходя к ней, он еще успел подумать:
«Не гляди в лицо! Ни в коем случае…»
Но в последний момент не удержался и, уже почти поравнявшись с матерью, прямо, в упор глянул в ее робкие, будто вечно испуганные глаза. Он заметил, как в них что-то дрогнуло, потом на лице матери быстро, как кадры в кинематографе, промелькнули и радость, и испуг, и недоумение, и даже ужас.
Бабушкин тотчас отвел глаза и ускорил шаги.
Но было уже поздно. За спиной он услышал негромкий стон. Бабушкин заставил себя не обернуться и продолжал удаляться. И тут он всем своим существом вдруг почувствовал: сзади что-то случилось. Какие-то возгласы, шум.
Сделав еще несколько шагов, он все же оглянулся.
Мать сидела на тротуаре. Не лежала, а именно сидела. Ее вдруг смертельно побледневшее лицо было обращено к нему. Глаза открыты, но, казалось, ничего не видят. Вся ее поза была такая странная, что Иван Васильевич враз остановился.
«Обморок?!»
Он резко повернул. Сделал несколько быстрых шагов к матери, вокруг которой уже суетились незнакомые люди, как вдруг заметил, что шпик тоже подошел к матери, но притом пристально глядит на него.
Это страшное мгновение Бабушкин запомнил на всю жизнь.
Чужие люди суетились вокруг матери, обмахивали ее шляпами и платками, произносили — кто искренне, а кто равнодушно — сочувственные фразы, какие всегда говорятся в подобных случаях, а он — сын, ее сын — должен был безучастно стоять в стороне, делая вид, что он тоже чужой и что все это его вовсе не касается.
— Задавили кого? — с жадным любопытством спросила Бабушкина барышня в дешевой, но кокетливой шляпке с вуалью, усыпанной черными мушками.
Он не ответил. Барышня, работая локтями, протиснулась в гущу толпы. И тут Бабушкин не выдержал. Он понимал, что это безумие, но тоже подошел к толпе и, отодвинув плечом пожилого чиновника в поношенном мундире, наклонился над матерью.
Она все еще была без сознания. Глаза ее теперь были закрыты. И она уже не сидела, а, неловко подогнув ноги, лежала на панели.
Все лицо ее покрылось мелкими бисеринками пота. Какая-то красивая дама вынула из ридикюля флакон, протянула студенту. Он поднес флакон к лицу Екатерины Платоновны. Та поморщилась, отдернула голову, и веки ее затрепетали.
«Уйди! Сейчас же уйди!» — внушал себе Иван Васильевич.
Мать вот-вот очнется и заговорит с ним. И тогда сразу выяснится, что «господин Шубенко» вовсе не Шубенко, а беглый «государственный преступник» Бабушкин. Иван Васильевич все время ощущал на себе понимающий, острый, сверлящий взгляд шпика.
Но уйти не хватало сил.
И только когда мать приоткрыла глаза, Иван Васильевич, чувствуя, что, если он помедлит еще хоть секунду, все рухнет, резко рванулся из толпы, и кольцо любопытных сразу сомкнулось за его спиной.
Он быстро пошел к Гороховой. Оглянулся. Шпик, выбравшись из толпы, семенил за ним. Следовало бы прыгнуть на первого попавшегося извозчика, но словно какая-то сила держала Ивана Васильевича возле того места, где стояла толпа, где лежала его мать. Он свернул в переулок и, все время чувствуя за своей спиной шпика, быстро свернул в другой переулок, снова свернул, и, описав круг, вернулся на Садовую, как раз напротив того места, где стояла толпа. Он видел, как студент с помощью какого-то господина усадил его мать на извозчика. Толпа расступилась, пролетка медленно тронулась.
Иван Васильевич все еще стоял на противоположном тротуаре. Руки его сами сжимались в кулаки. Лицо побледнело. Пролетка скрылась.
Бабушкин оглянулся. Шпик стоял неподалеку от него, делая вид, будто читает газету.
«Ладно, — с неожиданным холодным спокойствием подумал Бабушкин. — Когда-нибудь за все сочтемся. Сполна. А пока…»
Он медленно, как и подобает знающему себе цену страховому агенту, зашагал к Гороховой. Шпик шел за ним. Бабушкин свернул в проходной двор, быстро пересек его и прыгнул на конку.
Он видел, как шпик торопливо подзывал извозчика.
«Удеру. Не впервой! — зло подумал он. — И нынче же попрошу товарища сходить к матери. Мы еще встретимся. Обязательно…»
Клятва
Всего два месяца прожил Бабушкин в Петербурге. Жандармы схватили его и снова, уже третий раз, бросили в тюрьму.
Случилось это в январе 1903 года, когда Ивану Васильевичу как раз исполнилось тридцать лет.
В этот вечер к Бабушкину пришел дорогой гость — Василий Андреевич Шелгунов. Он только что приехал в столицу из Баку.
Друзья тихо беседовали. Тихо, потому что было уже поздно, дочка спала.
В этот момент и нагрянули жандармы.
В тюрьму кинули и Бабушкина, и его жену — Прасковью Никитичну, и дочку Лиду, а заодно — и неизвестного высокого широкоплечего мужчину в черных очках, случайно оказавшегося в квартире Бабушкина.
Дочке было всего четыре месяца. Когда в комнату ворвались жандармы и стали срывать обои, вспарывать шашками перины, отдирать задние доски от зеркала и даже снимать иконы, ища нелегальщину, Лидочка лишь бессмысленно таращила свои голубые, как у отца, глазенки и пыталась ухватиться за блестящий шнур усатого жандарма, который, в поисках крамолы, переворошил даже пеленки в ящике от комода, служившем детской кроваткой.
Бабушкин в начале обыска как бы случайно сбросил со стола бутылочку с шифровальной жидкостью — раствором желтой соли, чтобы она не попала в руки жандармов. Этими чернилами пишешь между строк, и написанное не видно. Но стоит провести по письму специальным составом — и выступают синие буквы.
— Стоять смирна-а! — рявкнул пожилой щеголеватый подполковник, услышав звон стекла. — Ты что это вылил?
Заложив руки за спину, расставив ноги в синих тугих рейтузах и легких лакированных сапогах со шпорами, подполковник наклонился, глядя на бутылочку.
— Пузырек уронил невзначай, — тихо, словно оправдываясь, произнес Иван Васильевич. — Лекарство для дочки… Это от волнения, ваше благородие, — с чуть заметной усмешкой продолжал он. — Так волнуюсь, так волнуюсь, прямо руки-ноги трясутся.
Подполковник подозрительно оглядел Бабушкина, встретился с его решительным взглядом и отвернулся.
Шелгунов за все время обыска не проронил ни слова. Он делал вид, что он посторонний и все происходящее его не касается.
Иван Васильевич спокойно наблюдал, как переворачивают комнату вверх дном.
Высокий молодцеватый жандарм, засунув в щель между половицами сверкающее лезвие топора, навалился на топорище. Лицо его побагровело: половица не поддавалась.
— А ты у дворника возьми лом, красавец, — сочувственно посоветовал Бабушкин. — Ломом-то сподручней полы расковыривать!
Подполковник снова исподлобья настороженно оглядел Бабушкина: тот не улыбался.
— Без вашей помощи обойдемся, — вдруг перейдя на вы, громко сказал подполковник и, понизив голос, прибавил: — Федор, слетай за ломом.
А Бабушкин уже вполне серьезным тоном советовал другому жандарму слазить в отдушину трубы: не спрятана ли там бомба?!
Не уловив насмешки, жандарм, гремя заслонками, до плеча засунул руку в трубу, долго шарил там и вытащил ее всю в саже.