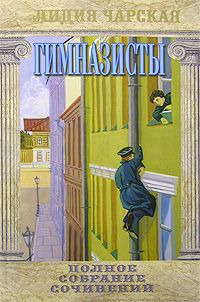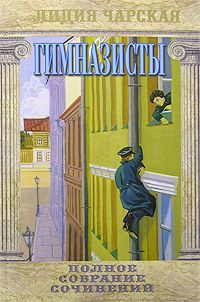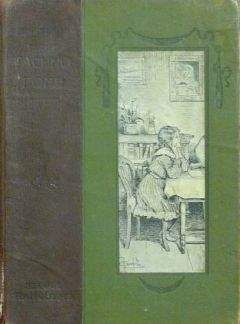Лидия Чарская - За что?
— Воронская — счастливица, с большим кавалером танцует.
Я быстро оглядываюсь. Джона нет у дверей. Он ушел. И прежде, чем кто-либо мог ожидать этого, я бросаюсь к проходившей мимо Додошке, хватаю ее за руку и, обращаясь к Вове со словами: Вот вам дама, monsieur Vоldemar, а мне некогда, — срываюсь с места, а затем, перебежав залу, бросаюсь к двери.
Вот он. Слава Богу, еще не поздно!
— Большой Джон!
— Маленькая русалочка!
Минуту мы стоим так. Он — такой большой, высокий, я — такая тоненькая, миниатюрная, и оба с тихим смехом смотрим друг на друга.
Потом он быстро берет меня под руку и ведет в маленькую гостиную, устроенную из нашего четвертого класса, где так хорошо и уютно, благодаря мягкой мебели, принесенной из библиотеки.
— Ах, Джон, как я рада, что вы приехали, как я рада, — говорю я, не спуская взгляда с его дорогого лица.
— Давненько же мы не виделись, русалочка; ну, рассказывайте, и все рассказывайте, что случилось с вами за это время. Я знаю только одно, как маленькая своенравная девочка была спасена рыбаками.
— Да? Вы знаете? — проронила я, вся вспыхнув под его пристальным взором. — Ну… а потом, потом… — Тут слова у меня полились без удержу. Я говорила, захлебываясь, задыхаясь, торопясь передать все. В какие-нибудь полчаса Большой Джон узнал, что Черкешенка по моей вине больна оспой, что Сима, или Волька, — прелесть, что Додошка тоже ничего, только глупенькая, что Фроська кляузничает maman, что солдатка скоро уедет в санаторию, а Марионилочка уже замужем, что…
— Стойте, стойте! Не так скоро, русалочка, я ровно ничего не понимаю… Фрося… Додошка… солдатка… Непонятно, кто это! — и Большой Джон расхохотался во весь голос. Я за ним.
— Вы рады меня видеть, русалочка?.
— Ужасно!
— Почему?
— Да потому, что вы не французите, как Вовка, вот этот высокий камер-паж в белых штанах.
— В штанах! — ужаснулся Джон, делая глаза огромными, как плошки.
— Ах, Джон! Правда, так не говорится, — соглашаюсь я, — но я так рада вас видеть! Так ужасно рада!
— А если вы рады мне, русалочка, то, должно быть, любите меня немножко?
— Ужасно люблю! — искренно вырвалось у меня.
— А если любите, то должны исполнить мою просьбу. Вы — большая девочка. Вон как вы выросли за это время — я почти не узнал вас. Так вот, как большая девочка, вы должны, русалочка, помириться с вашей мамой и полюбить ее, полюбить вашу маленькую сестричку, ваших братьев и приехать к нам в Шлиссельбург. Да, вы должны это сделать, русалочка, непременно должны.
Его глаза остановились на мне с выражением молчаливой ласки. Они просили, они молили меня — эти чудесные серые глаза, такие чистые и светлые, как у ребенка. Но сейчас эти чудные глаза вдруг стали мне разом ненавистны. Мне показалось — в них мелькнуло коварство. Они лукавили, серые глаза Большого Джона, они лукавили!
— Ага! — вскричала я бешено, не сумев победить своего порыва. — Ага! Она подослала вас ко мне! Она хотела хитростью, через вас, подействовать на меня! Но я поняла ее! Я ненавижу ее! Да, я ненавижу ее и вас заодно с нею, потому что вы считаете правой ее, а не меня!
Я вскочила со своего места и пошла к двери!
— Русалочка! Вернитесь! Вы не поняли меня, русалочка! Меня никто не подсылал, никто, никто! Я хочу только вашего блага, общего спокойствия, счастья и тишины. Вернитесь сюда! — кричал Большой Джон мне вдогонку.
Но вместо ответа я прибавила шагу и очутилась за дверью.
Не помня себя, я влетела на лестницу, в одну минуту миновала ее и вбежала в дортуар. Свеча находилась в шкапике у постели. Туда же я прятала и мой милый дневник, и крошечную дорожную чернильницу с ручкой. Через минуту свеча зажжена. Тетрадь дневника раскрыта. Но, Боже мой, как трещит голова, как шумит и стучит в голове. Я больна. Больна жестоко; теперь я в этом уже не сомневаюсь, больна. Как горит мое тело. Как дрожат руки. Какие красные круги в глазах. Кто-то стоит за моей спиной. Я знаю кто это. Серая женщина, я узнаю тебя! Постой! Постой! Спаси меня! Последние силы меня покидают. Мне дурно! Дурно! И все-таки у меня достаточно силы, чтобы написать:
Большой Джон, вы — предатель! Большой Джон! Слышите ли? Я никогда не полюблю ее. Никогда не поверю в ее доброту. Никогда не прощу ей того, что она взяла от меня мое солнышко. Я ненавижу ее! Нена…
Без числа
Должно быть, много времени прошло с тех пор, как я грохнулась у своего ночного шкапика, там, в дортуаре.
И когда бы я не открыла глаза, все та же ночь и та же темнота. Неужели я умерла? — думала я. — Неужели я в могиле? Неужели я никогда не увижу солнца на земле?
— Я хочу солнца! Я хочу солнца! Дайте мне его! — кричала я, как исступленная.
— Дитя мое! Ты увидишь его, как только поправишься. Теперь ты больна! — услышала я над собой тихий, нежный, словно воркующий голос.
— Кто вы? — спросила я голос.
— Я сестра Анна. Я пришла ухаживать за вами.
— Я очень больна? Очень?
Минутное молчание воцарилось в комнате. Потом голос произнес снова подле меня:
— Очень. Но теперь вам лучше — вы пришли в себя.
— Так откройте эти ужасные черные окна и сделайте, чтобы был свет в комнате.
— Этого нельзя. Ваши глаза не выносят теперь света, и вы должны лежать в темноте. Так велел доктор.
— Доктор? Но я ненавижу его, как ненавижу мою мачеху. Она заперла во тьму мою душу, а он, этот доктор, запер меня саму в эту гадкую черную комнату. Зачем они мучают меня?!
Я готова была зарыдать от злости. Я готова была кусать подушки. Но эта боль во всем теле, эта ужасная боль в лице мешала мне двигаться, жить, есть и дышать.
Опять ночь и опять темнота. Мне казалось, что я отрешена от мира.
Вновь приходит доктор. Он и сестра Анна двигались, как черные духи в темноте. Меня забинтовали, предварительно смазав бинты чем-то ужасным, потому что после этого я билась и кричала по крайней мере целый час от боли. Все тело мое зудело так, что я готова была рычать, как зверь, броситься на пол и кататься от боли. А на глазах лежала все та же непроницаемая повязка.
* * *Когда опять пришел доктор, я притворилась, что сплю. И вот из разговора, который он вел с сестрой Анной, я узнала, что у меня оспа, и притом в очень сильном и опасном виде.
Я, оказывается, была на волосок от смерти и могла остаться уродом на всю жизнь, если б стала сдирать эти ужасные повязки с зловонной, едкой мазью, от которой все тело болело и горело.
У меня оспа! Что это — Божие наказанье или искупление? Или просто так надо, как надо было заболеть Черкешенке, которая, слава Богу, теперь поправляется, как я узнала от доктора.
Сестре Анне, которая меня в темноте нечаянно задела за особенно больное место, я, не помня себя от боли, укусила руку. Она не бранила, не упрекнула меня, а только извинилась за то, что сделала мне больно. Мне стало стыдно.
Шепот у сестры нежный и ласковый, точно шелест ветерка. Я люблю, когда она говорит — дитя мое, роднушка моя, голубчик.
Моя тетя Лиза говорила так, мое солнышко говорил так когда-то и больше никто, никто!
Что думает мое солнышко теперь обо мне? Знает ли о моей болезни? Или ему все равно до меня, до маленькой девочки, которая так одинока, беспомощна теперь? — размышляла я.
Когда сестра Анна поила меня молоком с ложечки или натирала мазью, я чувствовала ее нежную, мягкую руку, но не видела ее. Плотная повязка все время лежала на моих глазах. Мне говорили, что я могу ослепнуть, если увижу свет, и остаться жалкою калекою на всю жизнь. Дрожь ужаса пробегала тогда по моему телу…
Ночью я постоянно стонала. О, как у меня чесалось тело! Какой нестерпимый зуд, какая мука! О, Господи!
Сестра Анна сидела у постели близко-близко, тихо поглаживая мои волосы, и своим нежным шепотом ублажала меня.
И когда я не хотела слушать ее нежных увещаний, она тихо, совсем тихо плакала.
— Сестра Анна! Вы плачете? Да?
— Мне жаль вас, дитя мое!
— Несмотря на то, что я кусала вас, и зла, как зверек?
— Вы больны, бедное дитя. А больным все прощается, — прозвучал кротко ее тихий шепот.
* * *Я так кричала и капризничала всю ночь, что сестра Анна выбилась из сил. Я то звала ее, то гнала прочь, то снова звала. И когда она замедлила подойти ко мне на минуту, я дико, пронзительно закричала:
— Вы не идете ко мне, потому что боитесь заразиться. Да, да, боитесь! Ведь у меня оспа! У меня оспа! Я знаю это!
В следующую же минуту я раскаялась в своих словах. Свежие, теплые губы сестры Анны внезапно прильнули к моим губам.
— Вот же тебе, чтобы ты не думала, что я боюсь заразиться, бедное дитя!
Слезы хлынули из моих глаз…
Я испугалась, безумно испугалась. Ведь могла же она заразиться! Ведь заразилась же я сама от Черкешенки, когда поцеловала ее!
И мне вдруг стала невозможной, чудовищной мысль, что она может заразиться, заболеть, умереть, она, такая добрая, чуткая, славная.