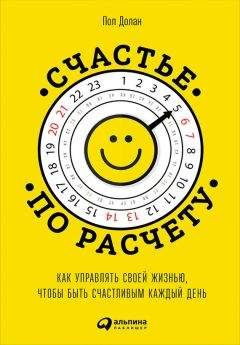Сильвия Раннамаа - Приемная мать
— А наши сегодня были в форме! Лики как даст... Анне как подымет, — и т. д.
Оставшаяся часть программы состояла из юморесок. Анне прочла «Укрощение велосипеда» Марка Твена, а затем последовало несколько эпиграмм и юморесок наших поэтов и писателей. Несколько вещиц типа эпиграмм мы сочинили своими силами. И в заключение программы — короткая беседа на тему: «Новейшие исследования о языке школьников девятого и десятого классов на территории нашего интерната», в которой я попыталась описать комические моменты, возникающие в результате нашего старания говорить изысканным языком. Наша передача имела успех, и все могло бы быть очень хорошо, но...
Для других этот вечер кончился весельем, смехом и музыкой, которую мы передали в заключение, а для меня... Случилось так, что мы с Энту остались вдвоем убирать помещение радиоузла. Кстати, Энту — технический руководитель всех передач, а я на этот раз была ответственной за содержание передачи.
Я укладывала наши рукописи на верхнюю «архивную» полку, как вдруг почувствовала, что кто-то протянул ко мне руки так, что я оказалась в узком промежутке между этими руками и полкой. Я резко обернулась и прежде чем успела что-либо понять, почувствовала, что прижата вплотную к полке в кольце сильных рук и что-то горячее и душное скользнуло по моей щеке, что-то прижалось на миг к моим губам. Я задыхалась от ужаса и вырвалась, как может вырваться человек, чья жизнь в опасности.
Упорно утешаю себя тем, что это все-таки был не совсем поцелуй, что он не успел, что... Но разве это утешение! И то, что я целый вечер скребла свою щеку и уголок рта стиральным порошком и туалетным мылом, тоже не утешение. Этот след не смоешь!
Как он осмелился?! Как он посмел?! Зачем? Зачем? Зачем? Ведь я не такая девочка. Я не дала ему повода. Должен же он это понимать. Тогда зачем? Зачем? Неужели для того, чтобы нанести мне очередное оскорбление? Как можно быть таким подлым?
В испуге я прежде всего побежала на третий этаж. Чувствовала одно — надо спрятаться, не хочу и не могу сейчас показаться в группе. Дверь зала оказалась почему-то открытой. Туда я и помчалась, села в темном углу на краю сцены и выплакала свой позор и злость в пыльный занавес. Ой, как он посмел! Он видел, что ничем другим не в состоянии вывести меня из себя, и вот теперь... Ой, как он посмел! Я била кулаком по занавесу.
Вдруг почувствовала, что кто-то здесь, рядом. Попыталась заглушить всхлипывания занавесом. Только бы незаметно скрыться отсюда. А то еще придется кому-то объяснять, почему я тут, на сцене, плачу. Осторожно огляделась. В открытую дверь из коридора проникал слабый свет. И в этом свете — о, ужас! — я увидела Энту, который стоял и прислушивался. Я открыла было рот, чтобы закричать, потому что он шаг за шагом стал как-то крадучись приближаться ко мне. Но он опередил меня:
— Не вой, как дурочка! Что я тебе сделал?
Сами по себе слова были по-энтуски грубы, но в его голосе было что-то человечное, какая-то очень слабая, затаенная умоляющая нотка или что-то в этом роде. Хотя страх исчез, но заплакала я еще сильнее. Слышала, как Энту шлепнулся рядом со мной на край сцены. Я продолжала плакать. И вдруг Энту полусердито, полубеспомощно произнес такие слова:
— Истинное слово, женщины — невозможные плаксы!
Неужели я не ослышалась? Поток слез как ножом отрезало. В полутьме я пыталась опухшими от слез глазами взглянуть прямо в глаза Энту: неужели ему в самом деле около двадцати лет и он уже лезет к девочкам с поцелуями?
— О каких это женщинах ты говоришь? — попыталась проиронизировать я.
Энту как-то сжался.
— Ну, черт с вами. Все вы одинаковые! И ты ничуть не лучше других!
Не знаю, думала ли я, что Энту непременно должен считать, что я лучше других (уж во всяком случае лучше Мелиты), только вдруг во мне закипела настоящая злость и я сказала по возможности ядовито:
— Поэтому-то ты и набросился на меня?
Кого-кого, а Энту одними интонациями не испугаешь.
Он пожал плечами и ответил тем же:
— Пожалуй.
Это переходило уже всякие границы.
— Что ты хочешь этим сказать?
Мой голос приближался к колоратурному звучанию.
— Примерно то, что я сказал. Все вы одинаковые. Страшно вежливые и добродетельные. Попробуй, не сними перед какой-нибудь девчонкой шапку — как вся компания уже в обмороке, и тебя вызывают на собрание к ответу. Ничего другого не услышишь, как «Обращайся со мной вежливо! Мораль комсомольца! Ай, господи, ведь я из хрупкого фарфора!». На вид вежливые и добродетельные до нитки, а в темном углу все одинаковые — готовы броситься на шею любому мальчишке!
От ненависти и обиды я забыла все на свете, испытывала только одно желание — ответить Энту тем же, раз он до сих пор не понял меня. Поэтому я спросила его шипящим голосом:
— Энту, ты, видно, хочешь, чтобы я заехала тебе по морде?
— Ну, видишь, я же говорил, — злорадствовал Энту. — У таких, как вы, тонкого воспитания, добродетели и красноречия хватает только на учителей, воспитателей и комсомольские собрания. А для таких, как я, — шлеп по морде, и дело с концом!
Я была посрамлена. Опять я сама посрамила себя. Это до того ужасно, что во мне все вдруг переворачивается и обязательно выливается наружу. Ведь так нельзя. Конечно, и у него в душе есть какой-то уголок, который позволит приблизиться к нему, не унижая ни себя, ни его.
Мы помолчали. В это время я постаралась семь раз глубоко вдохнуть и выдохнуть и только потом начала:
— Послушай, Энту, ведь я никогда не сделала тебе ничего плохого. Почему же ты постоянно преследуешь меня? Почему ты сегодня, — я начала заикаться, — почему ты сегодня меня так страшно оскорбил? Ведь я же не давала к этому повода, нет?
— Ну, конечно! — я поняла, что подойти к Энту и что-то пробудить в нем невозможно. — Если я дотронусь до тебя пальцем — сразу слезы и истерика, словно тебя режут, а если Свен с тобой лижется, тогда «ол райт» и такая манна небесная, только держись!
— Энту! — воскликнула я так громко, что Энту испуганно огляделся.
— Чего ты шумишь? Может, ты хочешь уверить, что тогда, в музыкальном классе, когда я на вас напоролся, вы там вдвоем со Свеном приносили пионерское обещание, что ли? Всегда готовы? — так, что ли? Не заметь ты меня, как бы это дело обернулось? А? Святоша! Мадонна! Не-тронь-меня! Полезу во имя других на туманный остров, да? А что за переписка у тебя с Урмасом? А? Что это у тебя за Урмас? А?
Каждое слово было для меня, как удар камнем по затылку. Именно по затылку, потому что они приходились словно бы в спину, искали незащищенное место, так, чтобы я не могла предвидеть, откуда будет нанесен удар. Я сидела совершенно убитая, онемевшая перед установленным Энту зеркалом. Это было беспощадно, как истина, и я видела себя так, как до сих пор не умела видеть.
И в самом деле, почему Энту должен был думать обо мне лучше, чем он думает, ведь, по его мнению, раз я могла играть, подыгрывать с одним, почему же он должен верить, что я не стану этого делать с другим? Он знал даже о моей переписке с Урмасом. Совершенно неизвестно, что еще он может знать обо мне. Да, конечно же, раз девочка такая двуличная и одно из ее лиц, как она хочет показать, до того уж честное и возвышенное, почему же, оказавшись с ней наедине, не испробовать своего счастья, чтобы потом, вместе с другими, посмеяться над этим!
Я была потрясена. Он сидел рядом, этот, с моей точки зрения, самый плохой мальчик на свете и имел полное право и основание считать меня плохой.
— Ты уже всем рассказал об этом? — наконец спросила я, вздыхая. И тут Энту ответил самым странным вопросом, который только можно было придумать. Он спросил меня, так же вздыхая:
— Скажи, Кадри, почему ты ненавидишь меня?
— Я — тебя?! Но ведь это ты ненавидишь меня, — ответила я в замешательстве и растерянности.
— Ты думаешь?
Я не поняла, что именно прозвучало в этих словах, только что-то очень странное и совсем не похожее на Энту. И вдруг мне опять стало страшно. Я встала и торопливо заговорила:
— Кажется, кто-то идет. Нам надо уйти отсюда. А то опять подумают неизвестно что. И двери внизу скоро закроют. Во всяком случае, я ухожу.
Я была уже в дверях, когда Энту окликнул меня. Нет! Нет! Сегодня я не хочу больше ничего слышать. Мне и так надо слишком многое обдумать. Я побежала по коридору и по черной лестнице.
Теперь вот сижу, пишу и грызу ручку. Тщательно вымыла лицо и рот, но далеко не все мне удалось смыть.
Свен и Урмас? Неужели я в самом деле была настолько низкой и вела двойную игру?
Но ведь это величайшая глупость. Разве можно себе представить здесь какую-то игру! С Урмасом я никогда ничего не разыгрывала и не собираюсь этого делать. Но почему же тогда мне нравилось улыбаться Свену и танцевать с ним? Почему мне нравилось нравиться ему? Или это и есть игра?