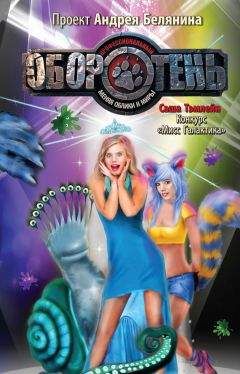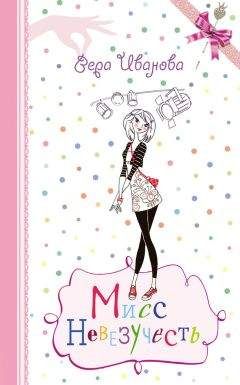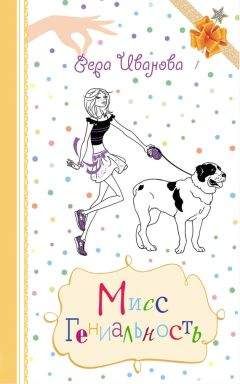Юн Эво - Солнце — крутой бог
Маршрут нехилый. Шеф поручает мне это задание, чтобы я отпахал за два прогулянные мною дня. Нетрудно сообразить, что сегодня не мой день. Ничто не остается безнаказанным. А ведь как здорово этот день начинался! Я соблюдал наш договор с Солнцем. Наводил порядок в своем барахле. И немного придушил прежнего Адама. Казалось, на руках у меня одни козыри.
Но все сорвалось, когда я решил схитрить. Я заезжаю в издательство и забираю там конверт — все равно еду мимо. Потом полчаса кружу в поисках нужного дома на Майорстюа, отчего у меня поднимается давление и чуть не лопаются барабанные перепонки, когда я красный, как омар, и потрепанный, как вчерашний салат, поднимаюсь на третий этаж. Велик я тащу с собой. Теперь в Осло уже не оставишь классный велосипед на улице без присмотра. Я стучу, потому что звонок не работает. Бородатый чувак, от которого несет пивом, открывает дверь и хмуро впускает меня в прихожую.
— Сейчас вернусь, жди здесь, — бурчит он.
Квартира мрачная. Занавески задернуты. Я стою и жду, а он скрывается в темноте. Шуршит бумага, словно в комнате полно крыс. Потом что-то падает — похоже, стопка книг. Чувак чертыхается и спрашивает: — Ты еще здесь?
— Куда же я денусь? — равнодушно отвечаю я, пытаясь разглядеть, что изображено на фотографиях, развешанных повсюду. На длинной стене их целая серия. По-моему, на всех один и тот же чувак. На одних фотках он смотрит направо, на других — налево. Иногда поднимает физиономию и выглядит надутым, как петух. Иногда — глядит в землю, словно ему стыдно. Протягивает вперед руки, будто у него на ладонях лежит по куску глины. Свет слишком слабый, чтобы я мог разглядеть, что он там держит.
— В левой руке — черепаха, а в правой — зубчатое колесо, — говорит хозяин. Он вынырнул из кромешной тьмы и стоит у меня за спиной.
Я вздрагиваю и чуть не сбиваю его с ног своим велосипедом.
— Это вы фотографировали? — спрашиваю я.
— Нет, это меня фотографировали, — отвечает он и трясет головой. — Когда-то и я был молодым. На фотографиях изображена молодость.
Забыл он, что ли, про конверт? Еще сильнее, чем раньше, пахнет вчерашней капустой и пивом.
Я хмыкаю. Потому что сказать мне нечего. Не хочу с ним спорить, но черепаха напоминает отнюдь не о молодости. Самой старой черепахе в мире было сто пятьдесят семь лет. Однако не думаю, что ему интересны подобные мелочи. Не тот тип. Надеюсь, что теперь-то он отдаст мне конверт и я смогу убраться восвояси. В этом человеке есть что-то трагическое, и мне неприятно оставаться здесь дольше, чем необходимо. Квартира, запах, фотографии и хозяин внушают мне отвращение.
— Вот так-то. Когда ты юн и мечтаешь стать взрослым, время ползет, как черепаха, а потом несется, что твой экспресс. Вот о чем должны поведать эти фотографии, — говорит он и приближается к самой моей роже.
Мне становится жутковато. Он как будто просек, что моя задача — стать в это лето взрослым.
— Это точно, — говорю я и протягиваю руку в надежде, что он вложит в нее то, за чем я явился.
— Несется со скоростью экспресса. Не успеваешь осознать то, что видишь, как это осталось уже далеко позади. И только потом понимаешь, что не узнал о жизни ничего, кроме каких-то мелочей, — он харкает и кашляет. Похоже, скоро у него от легких уже ничего не останется.
— Так чему же вы научились? — спрашиваю я, и мне кажется, что Старикашка-Солнце хочет поймать меня на крючок. — Чему, вы считаете, надо научиться, чтобы стать взрослым?
Хозяин протягивает мне конверт, но не выпускает его из рук. Каждый из нас тянет конверт к себе. Когда я делаю шаг назад, он тащится за мной. Я чувствую, что колесо велосипеда упирается в дверь у меня за спиной.
— Надо научиться хорошо жарить бифштексы, — не задумываясь отвечает он. — Это пригодилось мне в жизни больше всего.
— О'кей! — говорю я и выхватываю у него конверт.
Он выпускает его, и я открываю дверь. И понимаю, что если за всем этим стоит Старикашка-Солнце, то оно, как бы там ни было, обладает изрядным чувством юмора. Хозяин оставил меня в покое. Похоже, он даже отступил назад в темноту коридора. Все это сильно смахивает на сцену из фильма ужасов, где герой — падшая душа — направляется в ад. Я захлопываю дверь и бегу вниз. Чуть не упав вместе с велосипедом и не разбив себе морду, я еду в Терехов.
С этой минуты все идет наперекосяк. Потому что в Терехове я отдаю конверт, предназначенный для музея Мунка, а в музее Мунка оставляю пакет, адресованный в Терехов. И наконец, в издательстве я вручаю конверт, который взял у них же часом раньше.
Естественно, что теперь Шеф уже не может скрыть своей любви ко мне. Когда я возвращаюсь, он выкрикивает мое имя так, что звенят оконные стекла. Я вызван в его кабинет, который отделен от остальной конторы перегородкой из матового стекла. Пылища здесь лежит, должно быть, еще с довоенных времен, и я имею в виду не Вторую мировую войну, а Первую. Шеф, очевидно, не верит в удобство архивов и не убирает бумаги в папки и шкафы. У него в кабинете три больших полки и два стола, на которых высятся полуметровые штабеля документов. На стене за его письменным столом — раковина, рядом — грязнющее полотенце. Из кабинета на километр несет ментоловыми сигаретами, в пепельнице на столе, над которым он согнулся, тлеет непогашенный окурок.
Но наш Шеф по натуре добряк. Он не сердится, а только грустно смотрит на меня. Со скрещенными на груди руками он качает головой, словно разглядывает какого-то диковинного зверя. Потом снова тихо и спокойно объясняет мне, куда какой конверт или пакет следует доставить. Наконец он поворачивается к полкам и начинает что-то искать, давая мне понять, что наш разговор окончен.
— Я слишком много думал о том, как стать взрослым, — говорю я.
— Прости, что? — спрашивает он. Очевидно, он не привык, что с ним обсуждают что-то, кроме работы.
— Я хочу стать взрослым, — отвечаю я. — И, наверное, слишком поспешил. Но у меня нет времени взрослеть обычным путем.
— Ясно. — Он хватает сигарету. Правда, не за тот конец, и обжигает пальцы. — Ты не шутишь? Тогда ты поступил сегодня единственно верным образом.
— Вы это серьезно? — улыбаюсь я.
Но Шеф не улыбается мне в ответ. Думаю, он вообще не умеет улыбаться. На то он и Шеф.
— Быть взрослым — это, во-первых, беспрерывно делать глупости, — серьезно отвечает он и гасит сигарету в пепельнице.
— А во-вторых? — спрашиваю я.
— А во-вторых, делать из этого верные выводы, — сухо говорит он. — С первой частью ты, во всяком случае, справился на отлично. Ради блага нашей фирмы я надеюсь, что ты незамедлительно перейдешь ко второй.
— Спасибо, Шеф, — искренне говорю я. Я чувствую, что нащупал верный путь. Ясно, что Старикашка-Солнце хочет мне что-то сказать. Нужно только минут пять, чтобы это обмозговать.
Но мне хватает и четырех. Дело не только в желании стать взрослым. Нужно еще знать, как найти лазейку в этот взрослый мир. Я понял, Братья & Сестры, что мне нужен план действий.
Оказывается, этот новый Адам соображает куда лучше того старого Клумпе-Адама-Румпадама.
И новый Адам вырабатывает план.
У нового Адама мозги фурычат гораздо быстрее.
Новый Адам стучит на «Пентиуме» с блестящим процессором и оперативкой, достаточной, чтобы пробраться сквозь самые туманные мысли.
Новый Адам высится на двух полированных стальных ногах. Он благодарит Старикашку-Солнце, и его голос звучит как туманный горн или сирена воздушной тревоги: YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO! YO BRO!
В конце дня я использую любую возможность, чтобы выпытать у людей, как они стали взрослыми. Что для этого главным образом нужно? И что они могут посоветовать тому, кто до чертиков хочет покончить с детскими играми и перебраться во взрослое и более совершенное тело?
Конечно, я не могу со стопроцентной точностью передать, что и кому говорил. Ведь я делал вид, будто меня только что осенило. Но я уже представляю себе, как целюсь в прежнего ребенка Адама из своего пентиума-револьвера, который отличается современной сверхзвуковой скоростью, и посылаю ему в грудь заряд плазменных пуль. Крошка Адам падает с крыши элеватора и глухо шлепается о землю. А я тем временем вспоминаю, что это и есть глупая детская компьютерная игра. Которая осталась далеко в прошлом. Разве не так? Во всяком случае, я оставляю это в прошлом. Sure thing [6]!
В черепушке у меня гремят ритмы, уже не напоминающие ни одной известной мне группы, и я потягиваюсь всем телом.
Кости упираются в кожу и натягивают ее.
Ноги напрягаются от бедер и до колен.
Плечи со свистом расправляются. Как будто чайник дает знать, что он вскипел.
Все мое тело — кипящий котел, в котором варево только и ждет, чтобы вырваться наружу.