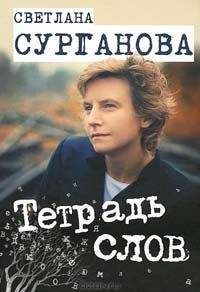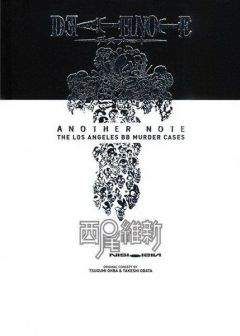Алексей Ельянов - Чур, мой дым!
— Он вон как изголодался, — говорила бабушка, — а ты тут войны и не нюхал.
Каждый раз, когда я ел, мне хотелось оставить на тарелке хоть немного щей или каши, чтобы не подумали, будто я обжора. Бабушка добродушно ворчала:
— Ты чего это?.. Коту оставляешь? У нас так не едят. Не жалей живота.
Утром, проводив дочь на работу, а внука в школу, бабушка садилась за вязанье. Мы начинали разговаривать. Бабушка расспрашивала меня о матери и отце, о том, как мы жили до войны, и о нашей дальнейшей дороге из Ленинграда. Она то улыбалась мне мягкой печальной улыбкой, то вздыхала, то крестилась, вытирая усталые глаза, то всплескивала руками, восклицая:
— О господи, горе-то какое, страдания-то какие. Сироток-то сколько останется!
Как-то бабушка разобрала наши вещи, кое-что выстирала, все аккуратно сложила в уголок. Среди вещей нашлась фотокарточка: на ней были мой отец и мать. Их головы склонились друг к другу, глаза смотрели на меня с таким безмятежным счастьем, что почудилось, будто и не было ничего: ни войны, ни смерти — и что вся моя жизнь там, в прошлом, откуда смотрят молодые, счастливые глаза родителей.
— Сбереги, — сказала бабушка.
Я смотрел на карточку и думал: «Почему отец так долго не возвращается, неужели он бросил меня?»
Однажды пришли какие-то мужчины, сказали, что они с завода, на котором работает мой отец. Расспросив о нем, предупредили:
— Пусть явится сразу, ему тюрьма грозит за прогул.
Отец пришел на следующий день очень поздно, когда мы все уже ложились спать.
Был он в шубе, пьян и небрит. Встал посреди комнаты, покачиваясь, огляделся, увидел меня возле печки. Подошел, поцеловал холодными слюнявыми губами, прижался к моей голове.
Потом вдруг выпрямился и испуганно приказал:
— Собирайся, да поживее.
Я начал одеваться, а отец торопил меня и набивал в мешок наши вещи.
— Куда это ты надумал? — строго спросила бабушка. — На дворе мороз. Ребенка не жалеешь?
Отец резко обернулся, покачал в руках мешок и осипшим голосом, сначала тихо, потом все громче начал говорить, подходя к бабушке:
— Я-то, я-то ребенка своего не жалею? Да я, бабка, за него знаешь что могу сделать? — Отец качнул мешком что есть силы, вроде замахиваясь.
— Папа, не надо! — крикнул я, подбежал к отцу и повис у него на руке.
— Ты что это, пьянчуга, вздумал! — крикнула бабушка. — Выкатывайся, и чтоб духу твоего не было!
— Не бойся, сынок, — сказал отец уже спокойно. — Я ее не ударю, я ее люблю и тебя люблю.
— Какая ж тут любовь, когда мальчонку в такие дни бросил, — сказала бабушка без раздражения, но решительно. — Не нужен он тебе, так оставь, сами управимся.
— Я не останусь, я с ним пойду, — сказал я с горячностью. — Я сейчас, я уже одеваюсь.
Отец молча стоял посреди комнаты, не выпуская мешок.
Кто-то постучал в дверь.
Отец вздрогнул, оглянулся. Бабушка неохотно поплелась открывать.
Вошел милиционер и с ним еще два человека. Они так быстро увели отца, что он успел лишь оглянуться в дверях и выкрикнуть:
— Потерпи, я скоро вернусь!
Отца посадили в тюрьму. Дня через три бабушка привела меня к нему на свидание.
Строгий милиционер с черными усами долго и молча вел меня по длинным гулким коридорам мимо массивных, обитых железом дверей. Он позвякивал огромными ключами, тяжело цокал подковами сапог.
Камера отца оказалась холодной, темной, с голыми каменными стенами, с удушливым запахом параши и крошечным окошком в небо. На окне лежал хлеб, чуть больше полбуханки. К окошку подлетал воробей, прыгал по карнизу за черной решеткой.
В полумраке я не сразу разглядел отца. Он сидел на нарах. Какой он был старый и несчастный! Стриженая голова, мясистые большие уши, две тяжелые руки между коленями. Было жалко его и страшно на него смотреть. Я хотел подойти к отцу, посидеть у него на коленях, но не решился.
— Можно мне покормить воробушка? — спросил я.
— Можно, — ответил он глухо, — покорми.
Я забрался на табурет, стал отламывать по кусочку от краюхи. Очень хотелось есть, куски покрупнее я клал в рот, а крошки бросал воробью. Отец, казалось, не обращал на меня внимания, но вдруг он сказал:
— Ешь, ешь, не бойся.
Когда я ел, он гладил меня по голове и говорил:
— Никто не знает, как я виноват перед твоей матерью. Она измучилась со мной и умерла из-за меня. Ты теперь станешь жить у чужих людей. Будь ласковым, добрым, тогда тебе помогут. И никогда не пей водки. И жди меня — выйду из тюрьмы, сразу же приеду к тебе. Где бы ты ни был, я отыщу тебя и приеду. А теперь запомни: ты уже не маленький, скоро тебе исполнится семь лет. Знай, что у тебя есть родственники в Ленинграде. Заучи их адрес: улица Растанная, дом два, квартира двадцать. Не забудь, повтори несколько раз.
Я повторял про себя адрес родственников. В моей памяти смутно, как во сне, возникали очертания домов, железнодорожная насыпь, широкая Нева с буксирами и баржами, заводские трубы на том берегу и людские лица — знакомые и чужие. Я все острее сознавал, что расстаюсь с отцом надолго, а может быть, навсегда. За мной скоро придет усатый милиционер. По длинным мрачным коридорам он выведет меня на улицу, а отца не выведет, оставит здесь, в душной камере. Он, видно, очень провинился перед кем-то, совершил такой поступок, который не прощается. Но разве такой уж плохой мой отец, что его нельзя простить? Они просто не знают, какой он хороший. Я попрошу их, я их очень попрошу — и они простят. Они не могут не простить. Ведь я еще совсем маленький, и мне не с кем остаться. Разве они не знают, что у меня умерла мать? Я же останусь совсем, совсем один. Неужели они не пожалеют меня, если я очень попрошу? Но к кому подойти, обратиться?
Забрякали ключи, со скрежетом приоткрылась дверь. Ворчливый голос сказал:
— Все, заканчивайте свидание.
Отец обнял меня. «Вот сейчас надо уходить, а он останется один, и я тоже останусь один. Ну простите его! За что его так!..»
— Идем, мальчик, идем, — строго бросил милиционер, крепко взял меня за руку и вывел из камеры. Рука милиционера была равнодушной, холодной, и я не проронил ни слова.
Я не знал, как поступить…
Из детского распределителя в детдом я ехал на телеге. Низкорослая лошадка с длинной лохматой гривой то бежала рысцой, то не спеша чавкала копытами, проваливаясь в весеннюю грязь. Дорога кружила, петляла между холмами, тонула в неглубоких стремительных ручьях, вползала на пятнистые оттаявшие пригорки. Вдоль просек как будто в испарине стояли высоченные сосны и ели. Талый ноздреватый снег поблескивал синими искрами. Мне бы, наверное, было совсем радостно ехать по такой солнечной весенней дороге, если бы удалось заглушить щемящее чувство, похожее на обиду и на жалобу. Это чувство теперь никогда не покидало меня, как только мы расстались с отцом. С тех пор мне еще ни разу не удалось рассмеяться, как бы ни старались меня рассмешить. Я мог только улыбнуться или хохотнуть, мог легко войти в игру или побузить с мальчишками, но все это делалось не самозабвенно, а с чувством странности и необязательности всего, что происходит. Мысли сами собой возвращались в прошлое, и я теперь особенно дорожил всем, каждой мелочью, которая осталась от недавней и очень далекой жизни. От того времени остались у меня валенки с галошами, шапка-ушанка и теплое пальто на вате с крупными пуговицами разного размера и цвета. Две пуговицы были круглые, черные, плоские, а две другие — рыжие, огромные, вогнутые внутрь, как блюдечки. Их пришила бабушка Настя перед тем, как отвести меня в детский приемник.
В детском приемнике я жил недолго. Там я успел подружиться с Юрой Абдулиным. Он стал моим покровителем, он был старше на несколько лет. До войны Юра жил в Крыму, недалеко от Анапы. О своих родителях он ничего не рассказывал, говорил, что не знает, где они теперь. А когда кто-нибудь из взрослых пытался подробнее расспросить его о прошлом, он насупленно молчал, сузив раскосые глаза и сжав губы. Самым большим его желанием было отыскать свою младшую сестренку, которая случайно отстала от поезда, когда их везли на Урал. С тех пор Юра старался не задерживаться в одном месте. При первом же удобном случае он убегал из одного детдома в другой в поисках сестры. И теперь вот ехал в глушь, в Абсалямово, с надеждой, что встретит ее там.
Юра сидел рядом со мной на соломе, поджав ноги и кутаясь в просторный тулуп. Он отщипывал от прутика вербы белые шелковистые почки, клал их в рот, сосал, причмокивал, щурил от удовольствия веселые татарские глаза.
— Митамины, — говорил он. — Ты тоже соси. Не жуй, а соси, чтоб слюна была вкусная.
— Не, Юрка, я лучше потерплю. Уж больно горько, а есть все равно хочется.
— Хочется, хочется. Всем хочется. Ты не думай об этом. На небо смотри, на лошадь смотри, на вербы смотри, веселее станет.