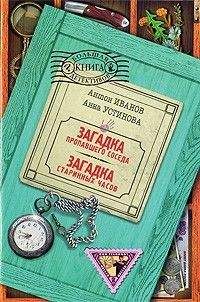Альфред Вельм - Пуговица, или серебряные часы с ключиком
Он пробовал, пробовал, и… вдруг получилось:
«Взвейся, огонь… Светись во тьме ночной… ясный знак… да трепещет враг…»
Но тут же Генрих понял, что это песня гитлерюгенд. И сразу перестал играть.
Потом он заиграл «Елочку». Боже мой, что бы он только не отдал, чтобы сейчас сыграть «Партизанскую», как ее играл Леонид на балалайке!
Но никак ему не удавалось подобрать начало мелодии.
— Надо сперва разыграться, — сказал Рокфеллер. — Так оно всегда бывает.
— Да, да, надо сперва разыграться, — сказал Генрих, сразу смутившись.
Потом они все вместе выкурили одну из американских сигарет и заговорили о другом. Но до чего ж хороша была все-таки эта мандолина!
— Сколько тебе надо долларов, чтобы купить ферму в Канаде?
Ферма, конечно, должна быть не маленькая, да надо, чтобы она была на берегу речки… Рокфеллер прикинул:
— Пятьдесят долларов.
— Правда, будет лучше, если на берегу, — согласился Генрих.
— И не чересчур широкая должна быть речка. — Рокфеллер уже собирался построить через нее деревянный мост.
— И я бы мост построил, — сказал Генрих.
— Водопой-то должен быть. Потому и надо ферму на берегу.
— Верно, водопой нужен, — согласился Генрих. — Ей-богу, я бы с тобой махнул в Канаду, и дедушка Комарек тоже с нами! Да и Отвин с нами бы поехал. Но нельзя, Рокфеллер, понимаешь, никак нельзя!
Отвин что-то очень часто кашлял, и лицо у него было какое-то красное.
— А львы-то еще есть, Рокфеллер?
— Львы? В Канаде есть и львы и медведи. Да и слонов там хоть отбавляй, — сказал Рокфеллер.
— Я ведь про львов здесь, в Берлине, — сказал Отвин и снова закашлялся.
— Я ж тебе еще дома говорил — надо было теплей одеться, Отвин!
— Ты это про львов в зоопарке, что ли? Верно, в зоопарке есть еще один-два льва, — сказал Рокфеллер, — да они отощали, как кошки.
— Их, значит, не всех разбомбило?
— Не, не всех.
Они тут же решили при следующей встрече обязательно сходить в зоопарк.
— А ты, Рокфеллер, и раньше в Берлине жил?
— Здешний я.
— И когда тут все бомбили?
— Ага.
— А братья и сестры у тебя были?
Раздавив окурок о крышку жестяной коробочки, он ответил:
— Две сестры.
Они закутали Отвина в солдатское одеяло — уж очень он раскашлялся.
— Одна большая сестра у меня была и одна совсем маленькая.
— А у меня не было ни брата, ни сестры. Зато у меня теперь есть дедушка Комарек.
— Большой сестре было пятнадцать лет.
— Пятнадцать?
— Ага.
— Нам пора, Рокфеллер, а то поезд уйдет.
Снег перестал, но ветер дул очень холодный, а когда они пришли на Лертский вокзал, все вагоны были забиты, люди висели на подножках. Ребята залезли на крышу последнего вагона, но здесь так дуло, что они спустились и устроились на буферах.
Ночь была ясная. Порой поезд подолгу стоял на каком-нибудь полустанке.
— Как доедем до Данневальде, Отвин, я тебе свою курточку отдам. В Данневальде, ладно?
Они заговорили о звездах.
— Понимаешь, Отвин, есть постоянные звезды, а есть блуждающие. И Земля — звезда, Отвин, но она как раз блуждающая.
Наконец поезд снова тронулся. Ярко светила полная луна. Деревья отбрасывали на снег синие тени.
— А этот Киткевитц, он твой настоящий дядя?
— Нет, он чужой. Но ему достанется все наследство, если он хорошо будет работать.
— Ты с ним ладишь?
— Да, но я его не люблю.
— Он обзывает тебя червяком?
— Обзывает.
— Как доедем до Данневальде, я тебе курточку отдам.
26Два дня спустя, когда Генрих пришел в школу, у него под мышкой торчало пять ольховых поленьев, и еще он принес с собой в класс красный плотницкий карандаш дедушки Комарека.
Но Отвина в школе не было.
— Вчера он тоже не приходил, Сабина?
Старая учительница достала из сумочки книгу. Ее передают с парты на парту, и каждый ученик должен громко прочитать абзац.
— А после школы, Сабина, ты не видела его?
В эту минуту книгу передали Генриху, и он громко прочитал:
— «Смотритель задумался. Слова Теде озадачили его. «В каком же это смысле, Теде Хайен? Третье колено — это я и есть».
И Генрих передал книгу Лузеру.
Старой учительнице так и не удалось справиться с ребятами. На уроке они громко разговаривали, а Фидер Лут даже трубки изо рта не вынул, когда вслух читал. На второй перемене Генрих, стараясь быть незамеченным, обошел школьное здание — и… домой!
Отвин лежал в кровати. Глаза блестят. Голова покачивается. Он даже не заметил, что вошел Генрих.
— Я съезжу за доктором, Отвин. Орлика запрягу и привезу доктора.
В каморку вошла фрау Раутенберг. Тощая, строгая, она немало удивилась, увидев Генриха, но ничего не сказала.
— Надо за доктором съездить, фрау Раутенберг.
— Тут никакой доктор не поможет, — проговорила она, поставив кружку с чаем на табуретку около кровати. — Кто сильный, тот и выживет.
— Надо за доктором съездить, фрау Раутенберг.
Ничего не ответив, она вышла на кухню. Слышно было, как она там гремела посудой.
Понемногу мальчишки разговорились.
— Когда ты море видел, Генрих, оно было… раздумчивое, да?
— Да, Отвин, раздумчивое. Синее оно было и чуть-чуть зеленое.
Скоро Генриху показалось, что Отвин и не больной совсем и они сидят, как бывало, на валунах под яблонькой и разговаривают. И — лето.
— Но ты горизонт четко видел или как?
— Четко видел. И пароход проплыл вдали, и я его очень хорошо видел… У тебя колет в боку, Отвин?
Генрих удивился, какой ясный и даже звонкий голос был у Отвина.
— Понимаешь, и волны. Много-много волн! Но оно все равно раздумчивое, Отвин.
— Нет, нет, туда, к горизонту, оно желтое.
— Понимаешь, Отвин, солнце светило, и очень даже хорошо можно было различить горизонт.
— Солнце светило? Нет, нет…
Генриху стало жутко оттого, что Отвин так спокоен, так беззаботно разговаривает с ним…
— Вот увидишь, Отвин, ты выздоровеешь, опять совсем будешь здоровым. А летом мы с тобой запряжем Орлика и покатим к морю.
Он долго уговаривал так Отвина и никак не мог понять, почему его друг говорит, что хочет умереть.
— Колет? Все еще колет, да?..
Потом, когда Генрих ехал в город, выпросив перед этим старые сани с господского двора у Готлиба, и Орлик бежал рысцой по снегу, он думал:
«Ему лучше сейчас, лучше. А когда я ему привезу таблетки, у него жар пройдет. Я сегодня еще три соленых угря отнесу фрау Раутенберг, и она сварит ему хороший суп — он совсем выздоровеет. И еще я ему подарю мою мандолину, а летом… летом дам Орлика покататься верхом…»
Генрих то и дело погоняет лошадь, хотя она и так с рыси не сбивается, — ему во что бы то ни стало надо до темноты добраться до города.
Дом доктора Фалькенберга ему пришлось искать долго. Открыла сама хозяйка. Но она не хотела звать доктора — двое суток он не спал, только что прилег. Неожиданно доктор сам появился в дверях.
Это был крупный, даже толстый человек. Пристегивая помочи, он сердито поглядывал на мальчишку.
— Где колет? — Голос у него был ворчливый.
— Вот здесь колет, и здесь, господин доктор.
От усталости доктор еле держался на ногах, но мальчишку слушал внимательно и удивлялся, как страстно тот уговаривает его, рассказывая о своем товарище, который почему-то хочет умереть.
— Ты говоришь, он лежит в Пельцкулене?
Потом, когда они уже выходили на улицу, доктор был даже ласков с Генрихом, хотя голос у него по-прежнему был ворчливый.
Но сани доктору совсем не понравились: в имении на них раньше возили навоз, а сейчас лежало два снопа соломы.
Дорога через лес никак не кончалась. Генрих говорил без умолку. Доктор слушал. Время от времени паренек погонял лошадь, уже взмокшую и на каждом ухабе бившую ногой о толстое дышло.
Постепенно у доктора сложилось определенное представление об обоих мальчишках, и он подумал о том, какая крепкая дружба, должно быть, связывает их. Мальчик спросил, есть ли у доктора с собой таблетки.
— Есть таблетки, — сказал он. — Все у меня есть вот в этом большом саквояже. И шприц есть.
Мальчику такие ответы явно понравились. Однако про себя доктор опасался, что уже не сможет спасти больного друга этого мальчика.
— Это твоя лошадь?
— Да, моя.
И мальчик снова заговорил о рисунках своего друга, о его стихах.
Когда они подъехали к дому Раутенбергов, доктор очень удивился: он-то ожидал увидеть жалкую избушку! Они накинули на Орлика попону и переступили порог.
Входя в комнату, доктор даже не поздоровался, а только молча отстранил пораженную его появлением фрау Раутенберг.
Отвин лежал и улыбался. Он был мертв.