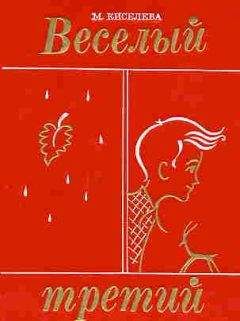Михаил Коршунов - Бульвар под ливнем (Музыканты)
Ко второму отборочному туру, уже не анонимному, будут допущены конкурсанты, набравшие не менее восемнадцати баллов при двадцатибалльной оценочной системе. К финальному туру будет допущено пять скрипачей. Окончательное распределение мест будет произведено персональным голосованием по каждой кандидатуре.
Отель превратился в музыкальную школу. Звучали десятки скрипок. Это была спортивная разминка. Только разминались не простые ученики, а юные звезды европейского масштаба. Но звезда ли ты или просто ученик, разминаться приходится одинаково: гаммы, пьесы и потом наиболее сложные места из конкурсных произведений. «Пробовать „швырнуть“ руку на весь пассаж, прокатить его и вогнать в адрес».
Андрей проверял еще и еще раз, как он все «вгоняет в адрес». И это проверял сейчас весь отель «Босанка».
Тамара Леонтьевна закрыла ноты, сказала Андрею:
— Может быть, достаточно?
Андрей снял с плеча скрипку.
Наступили сумерки. Море засветилось лунным отблеском и придвинулось к отелю, к раскрытым окнам.
Тамара Леонтьевна зажгла в комнате свет.
Андрей посмотрел на белое облачко канифоли под струнами у стойки. Можно загадать, как на кофейной гуще. Андрей взял замшу и стер облачко. Вытер струны. Отпустил винт на смычке и вытер смычок.
Посмотрел на море, которое так придвинулось к окнам. Придвинулся и завтрашний день. И опять все, что он только что делал на скрипке, показалось ему не таким уж удачным. Удачи звучали в соседних комнатах, под пальцами других скрипачей. Может быть, зря стер канифоль и не загадал?..
Тамара Леонтьевна хотела, чтобы Андрей побыл один. Она знала, что теперь музыкант должен быть один. Поэтому сказала, что останется в гостинице, а Андрею предложила проехать в старую часть города, ту самую, которую он видел в проспекте, где завтра в концертном зале бывшего княжеского дворца будут происходить соревнования. Она хотела, чтобы Андрей после себя, после своей скрипки не слушал бы других. Не пытался слушать.
Андрей спустился в вестибюль. Там было много народу. Журналисты, репортеры. И опять ребята, сочувствующие и собиратели автографов. Он увидел Маделайн, она давала интервью. Ее фотографировали. Маделайн была естественной и непринужденной. К ее костюму, рядом со знаком, который выдавался участникам конкурса, была приколота та самая роза, подаренная летчиком. Может быть, Маделайн рассказывала об этой розе корреспондентам, а может быть, отвечала на какие-нибудь подобные вопросы:
— English, Scottish, Irish or Welsh?
— English. My mother's English, too. But my father's Scottish.
— And jour husband?
— My husband's Jrish.[10]
Эти вопросы и ответы на них на английском языке были у Андрея в небольшом разговорнике «An interview»,[11] выданном ему в отеле.
Андрей хотел пройти через толпу. Знак участника конкурса он спрятал в карман. Но все равно журналисты и репортеры узнали его. В больших голубоватых линзах их фотоаппаратов Андрей увидел свое отображение, потом услышал, как мягко захлопнулись шторки затворов.
— Well! Fine![12]
— Thank a lot![13]
Вот она, массовая информация: газеты, радио, телевидение. И все это на высоком международном уровне.
Приятно, но и не очень приятно. Может быть, потому, что ты только претендент, но еще не победитель, и шансы у всех участников еще равны, и отношения у всех с «маскоми» одинаковые. Приятно, когда окружают только одного. Победителя. Когда он становится действительно нужным всем средствам информации. Он один. И говорит, что ему здесь понравилось, а что не понравилось. Он обладатель медали «Орфей» — главного приза конкурса.
Около отеля был установлен стенд с портретами и краткими биографиями скрипачей, и в биографиях часто значилось: премия на конкурсе в Антверпене, почетный знак на конкурсе имени Жака Тибо, диплом в Хельсинки на конкурсе имени Яна Сибелиуса, лауреат фестиваля в Беркшире, в Аспене (в США).
Андрею захотелось вернуться к себе в номер. Он поднялся на этаж, быстро прошел по коридору, открыл дверь номера. Совсем тихо, осторожно. Тамара Леонтьевна жила рядом. Андрей не хотел, чтобы она услышала, что он вернулся. Не зажигая света, подошел к окну, нажал на рычаг и опустил деревянные наружные шторы. В комнате совсем стало темно. Не было видно даже отблесков луны. Древний город тоже был где-то в темноте. Таинственный и неизведанный. Андрей не хотел ничего сейчас видеть таинственного и неизведанного. Он боялся этого. Он хотел сохранить в себе все, что привез своего.
Андрей тихо в темноте прилег на диван. Он боялся конкурса. Все удачи звучали сейчас только вокруг него, но не в нем самом. Он не был сейчас мастером.
Глава шестнадцатая
Андрей играл четвертым.
На сцену разрешили выйти за три минуты до выступления.
Ширма. Никого не видно. Маленький микрофон для контрольной звукозаписи. Кто-то из скрипачей назвал его «квакалкой», потому что неизвестно, что он может наквакать. Тамара Леонтьевна достала из сумки платок, осторожно провела по клавишам. Сделала это по привычке, или это у нее тоже стало приметой. Клавиши черного «Стейнвея» были, конечно, совершенно чистыми. Поставила ноты и сразу одним движением отогнула нижние концы страниц. Проверила, как будут листаться.
У Андрея в руках Страдивари, смычок. Андрей расстегивает пуговицы на манжетах рубашки: руки должны быть свободными, кисти. Расстегивает пуговичку на воротнике рубашки. Проверил, не скрипит ли под ногами пол.
Теперь три раза ля. Тамара Леонтьевна нажимает первый раз клавишу. Второй. Третий. Андрей подстраивается.
Прошло две минуты.
Все, что было вчера, это было вчера, а теперь все должно быть, что должно быть сегодня. Сейчас. Вот… Через минуту… Нет, меньше чем через минуту. Скрипка на плече. Смычок нацелен на струну. Придет сейчас с первым движением быстрота, четкость, точность игры. И отвага, и смелость, и элемент риска, и красота, и серьезность. Ну! Придет все это или не придет? Сумеет пробиться сквозь ширму к слушателям в зал? Чтобы одно дыхание с теми, кто по ту сторону ширмы? Дыхание неразделенное и неразделимое? Ну!
Тамара Леонтьевна поднимает руки над клавишами, смотрит на Андрея. Вчера ничего не начиналось, вчера еще было впереди сегодня, и можно было сомневаться в себе, и не сомневаться, и опять сомневаться. А теперь уже нет ничего впереди, никакого запаса времени. Секунды. Андрей их слышит, каждую секунду. Он должен начать. Как в тяжелой атлетике: три минуты, и надо браться за штангу, толкнуть ее сильно и плавно, и стоять потом, держать над головой, пока судьи не засчитают вес, не скомандуют «даун» — опустить. Скрипка для Андрея — штанга, тяжелая, с рекордным весом.
Тамара Леонтьевна нажимает на клавиши. Теперь это не ля, уже все началось.
Андрей касается смычком струны, сильно и плавно толкает скрипку — первый такт перед контрольным микрофоном…
Рита — о себе и об Андрее
Мы стояли на площади, и я сказала, что я его люблю. Но я не знала тогда, люблю я его или нет. И раньше, когда еще учились в школе, тоже не знала. Теперь знаю, что не люблю. Это окончательно. Нет, я его люблю, но не так, как сказала. Тогда, на площади, я должна была так сказать Андрею, чтобы он поверил и успокоился, и сумел подняться на ту ступеньку, на которую он может подняться как музыкант. На самую верхнюю, это его место, в высшей лиге, что ли. И я обязана была помочь ему. Но у меня часто не было сил не то что на других, но и на себя. Но я не хотела с этим считаться. И не хочу! И не буду!
Я отвергала все легкое для себя. У нас в семье индустриальные традиции, но вместо мальчика родилась я, и еще в таком вот ослабленном качестве. Птицы в полете не смотрят назад, и я не хотела смотреть назад. Мне казалось, что, когда чувствовала себя хорошо, сил много. «Завтра — это только другое имя для сегодня», — индейцы говорят. Я не хотела застревать в себе, в одном и том же сегодня, которое было бы связано только с моим здоровьем. Хотела доказать себе и всем, чего я стою. Не родился сын, но зато родилась я. Это я отцу так говорила. Пыталась мне препятствовать мама, но я с ней быстро справилась. Может быть, даже обидела при этом. Мою маму надо очень хорошо знать, чтобы догадаться, что вы ее обидели: она не то чтобы вежливый человек, а мучительно застенчивый. Она резко выпадает из индустриальных традиций семьи. Инопланетянка. И выпадает прежде всего за счет характера, его своеобразия.
Такая у меня мама, но я совсем другая в отношении характера и всего прочего. Очевидно, я о себе говорю не очень понятно или не очень убедительно. А все потому, что сама для себя все-таки не очень понятная и убедительная. Я стремлюсь к тому, чтобы обнаружить себя настоящую в какой-то момент, найти последнее, подлинное измерение, которое до сих пор не нашла, — кем буду на самом деле? Чего хочу? Я! А не того, чего требуют от меня обстоятельства, которым подчиняюсь честно, охотно и абсолютно по собственной воле. Сама на себя их возложила.