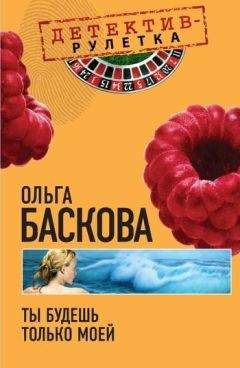Василий Лебедев - Утро Московии
– Погоди с лошадью! Толкни поди ключника да принесите мне молока холодного из погреба.
Между тем появился конюх, тоже ожидавший хозяина, поймал в темноте лошадь и у самой двери в конюшню стал ласково разговаривать с ней, позванивая ременным нарядом. С лестницы, похлопывая полами старого хозяйского кафтана, торопливо спускался дворский и на ходу шепотом сообщал, что все на дворе благополучно, все давно спят. Морозов никого не хотел будить, никого не хотел видеть, но он чувствовал, как насторожен двор, – слышались шорохи, шаги. Из сада, что слился чернотой своей с хоромами, вышел сторож и остановился шагах в десяти, совершенно невидимый в темноте, лишь по блеснувшему лезвию бердыша можно было узнать его.
«А ночь-та, а ночь-та!» – подумал Морозов, откидываясь спиной на крылечный столб-кувшин. Он почувствовал, как отпускает его нервная усталость – голове становится легче, все тело приятно обмякло, – и понял, отдаваясь этой полуночной истоме, как это хорошо, когда тебя никто не видит, как хорошо принадлежать себе хотя бы в ночи…
Морозов не помнил, сколько времени оставался в этом блаженном состоянии, видимо всего несколько минут, а жизнь, от которой ему мыслилось отгородиться темнотой, снова осенила его нелегким знамением вопросов, сомнений, загадок, предчувствий. Здесь, на своем крыльце, под звездым простором, думалось широко и крамольно. Стоило только вольно пустить фантазию, как она в тот же момент выстроила в ряд не только прошлое: регентство Годунова, убийство царевича, воцарение и царствование того же Бориса, нашествие самозванцев в окружении алчных полчищ завоевателей, досадные заблуждения народа, поверившего в самозванцев, – и не только эти воспоминания.
Фантазия рисовала и картины будущего во всей его непостижимости. И все это, смешанное в непонятную путаницу крестоцелований и клятвопреступлений, пожаров и крови, одержимой целеустремленности народного движения и случайностей придворных взлетов, не только не пугало Морозова, но, напротив, волновало, ставило под сомнение святость Божьего помазанника, прочность его маестата, надежность людского молчания и даже вот этой ночной тишины. Что там, за этой тишиной? Куда пойдет Русь с Михаилом, выбранным на царство? На кого можно положиться в том неведомом движении и днесь, и во веки веков?
Морозов не мог ответить на эти вопросы. Не мог, однако знал, что ничего доброго не следует ждать Руси от тех, кому она дорога лишь своими дворами, поместьями, обширными вотчинами да царевым жалованьем.
Первым «карманным патриотом» Морозов считал второго государя – патриарха Филарета. Сколь темна и непонятна была эта личность! Но миру известно его тайное сношение с польским королем во время войны. Не кто-нибудь, а он, еще будучи митрополитом Ростовским, в 1610 году пробирался под Смоленск в стан короля Сигизмунда, и только случайность помешала Филарету сесть в посланную к нему навстречу королевскую карету. И кто знает, что было там? По какой цене пустил бы «тушинский патриарх» Русь с молотка? Что было! Что было! Князья Черкасские, Сицкие, Лыковы – все разбились по разным станам. Никакой Боярской думы и в помине не было, над всей Русью стоял один Ратный совет с князем Пожарским…
– О Русь! Как ты выстояла? – вслух произнес Морозов, услышал свой голос и вернулся к действительности.
У крыльца уже собралась челядь: дворский, конюх, воротник, сторож. Пришел ключник, принес кувшин холодного молока и остановился в пяти шагах.
За подворьем крутицких митрополитов, что было почти напротив, раздался стук копыт по деревянному настилу Спасской улицы. Лошадь проскакала до колокольни Ивана Великого и остановилась – это Морозов определил по стуку копыт в ночной тишине Кремля и по времени бега лошади. Было ясно, что это к цареву двору с вестями невеселыми. Откуда? Вспомнилось, как покрикивали стрельцы у Флоровской башни, там звенели цепи, поднималась решетка – на это он не обратил внимания, когда ехал домой. «Нет, не к добру сей конский топот», – подумал он и не знал, пойти ли ему спать или подождать немного, чтобы потом, в случае вызова во дворец, долго не одеваться.
Дворский взял кувшин молока у ключника, понюхал и поднес боярину.
– Василий Петрович, батюшко, вот тебе, вечернее…
Морозов пил молоко, наслаждаясь покоем и слушая, как гудели и потрескивали крыльями жуки в березовых листьях.
– Боярыня велела спрашивати: идеши спать ай нет? – тихо спросил дворский.
«Не может без посылки! – подумал Морозов с досадой. – Целый божий день по дворам наезжала, портних выискивала, а посередь ночи затосковала… Пойду, пожалуй, спать!»
Глава 13
Давненько не помнил Морозов столь муторной ночи. Не успел уснуть, как залилась собака на Крутицком подворье, а за ней – и на морозовском дворе.
«Это за мной!» – еще сквозь сон со злобой подумал он.
Через минуту загремели, заколотили в ворота посыльные.
Морозов вышел в ночной рубахе на рундук, потом вернулся в хоромы, спустился по внутренней лестнице в подклеть, растолкал дворского.
– Вставай! Коли от царя, то говори, что-де мигом еду!
Стучал сам сотник Царева полка. Морозову уже подали лошадь к крылечному приступу, и он, готовый ко всему, угрюмо взобрался в седло, выехал за ворота. На голову он надел лишь одну тафью, а на плечи – лишь домашний кафтан с жемчужными пуговицами. Такая одежда говорила о спешности сборов и подчеркивала не только верноподданную торопливость, но и простецкую близость к царю; если же такая близость могла стать неугодной, то весь наряд опять-таки объяснялся необычайно поспешным вызовом.
Под Иваном Великим, у коновязи, похрупывали сеном чьи-то лошади – чьи, не видно было во тьме. В стороне кто-то прошел, держа путь на Царицыну палату. Вспомнился почему-то блуждающий по Кремлю старик, и стало немного не по себе.
У Постельного крыльца стояла только стража. Сотник провел Морозова через Прорезные сени, по тем же переходам, по которым он шел днем. Полы на переходах, сожженые при поляках, были заново настланы в 1613 году. За эти годы широкие половицы разошлись, рассохлись, и пора было их ремонтировать. Вспомнив, сколько денег ушло на ремонт царских покоев, сколько роздано жалованья совершенно ненужным государству людям, Морозов подивился, как еще справляется Казенный двор, как сводит концы с концами. По разговорам ясно, что казна невелика, но молодой царь опять надеется на помощь купцов Строгановых, долг которым так еще и не вернул…
Дверь в Переднюю палату была приотворена. Желтый свет свечей косо освещал пол, выложенный дубовыми шашками тоже послевоенной работы, а делали это тверские мужики: Тверь – царев город… Сейчас в Передней сидел доктор-иноземец и рассматривал что-то в склянке. Рядом стоял дьяк Аптекарского приказа и двое рынд в обычных стрелецких кафтанах. Морозов прошел до середины Передней, оглянулся и увидел на лавке у самой двери стряпчего Коровина. Тот сидел поникший, пожелтевший, скрестив ноги и зажав руки между коленями. Когда Морозов остановился, аптекарский боярин лишь хмуро взглянул на него и отвернулся.
В следующей палате, где днем царь разговаривал с приближенными, сейчас сидел утомленный патриарх. Он свесил голову и по-мужицки оперся ладонями о широко расставленные колени. Перед ним по ковру расхаживал Трубецкой, гордясь, что прибыл во дворец раньше Морозова.
– Какое еще лихо? – спросил его Морозов.
– Погоди, и тебе ведомо учинится[165]! – заносчиво ответил Трубецкой. Он уже знал от патриарха все.
– Почто годить?
Морозов с ненавистью посмотрел на довольную физиономию Трубецкого. Надо бы не обращать на это внимания: уж он-то привык к этим дворцовым заносам, а вот не мог оставаться спокойным. Когда шепчутся, что он «западник», что норовит походить на немцев по одежде и по двору, – тогда он спокоен, а если вот так, в глаза, смотрят сверху вниз… «Жалко, не попался ты ныне Козьме Минину в лапы, он бы те показал!» – подумал Морозов.
– Почто годить, говорю?!
– А потому, что не к спеху стегати Стеху: раз стегнул да отдохнул!
Скандал был бы неуместным. Спор затих.
Вошел Мстиславский, запарившийся, грозный, тоже во всем домашнем. Недовольно взглянул на опередивших его Трубецкого и Морозова. Последнему буркнул:
– И ты тут?
– Я не по петухам встаю! – отпихнулся Морозов.
Трубецкой покривился в улыбке.
– A-а, пришли… – промолвил патриарх и направился один в Постельную к сыну.
Однако в Крестовой его встретил постельничий, и они зашептались там. Потом, так и не пройдя к царю, вышли из Крестовой в комнату и крикнули аптекарского дьяка.
– Что фряга молвит? – спросил патриарх.
– Доктор смотрит воду.
– Ну?
– Поди ведай…
Патриарх вздохнул. Поднялся, ушел в Крестовую, шумно зашептал там перед иконостасом, закланялся. Сегодня у него выпал тяжелый день: заменил царя на боярском сидении, а под вечер разбирал челобитную Афоньки Шубникова, человека гостиной сотни, на стрельца Миколу Жигулина, подменившего на предсвадебных смотринах свою кривую дочь девкой тяглого человека со своего двора. Патриарх приговорил по обычаю: кнута батьке, а дочь – в монастырь…