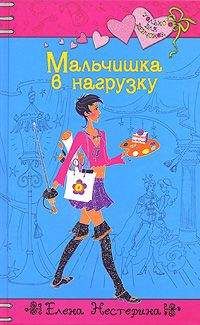Хорст Бастиан - Тайный Союз мстителей
«Что ты! Евреи такие же люди, как и все».
«Что же тогда этот доктор так рассердился?»
Он пожал плечами.
«Я и сам не знаю. Но ругать нас уже многие ругают. За то, что мы евреи. Дедушка говорит: таких все больше делается. Он говорит: их натравливают на нас. А ты понимаешь, что это такое: «натравливают»?»
«Нет», — ответил я.
«Я тоже не понимаю. Но я уверен — это пройдет. И никто никого не будет «натравливать».
Его вызвали, и я остался один. Выходя, он сказал, что подождет меня на улице. Я никак не мог дождаться своей очереди, страх снова овладел мною. О зубах, бормашине я не думал вовсе, только о самом докторе и о его злых глазах. Но вот наконец вызвали меня. За мной пришел наш классный наставник. В коридоре он даже больно пнул меня в спину — иди, мол, скорей! В кабинете мне велели сесть в кресло. Рядом стояла бормашина. У нее была такая же педаль, как у швейной машины. Когда на нее наступали, бормашина начинала жужжать.
Молча доктор следил за мной, время от времени проводя пальцем по рубцу. Я в конце концов не выдержал и сказал:
«Правда, господин доктор, я не еврей. Правда, не еврей! А потом Самуил сказал мне, что евреи такие же люди, как и…»
«Заткни глотку! — заорал на меня наш классный наставник, не дав мне договорить. — Кто такие евреи, и люди они или нет — не Самуилу определять!» На лбу наставника вздулись жилы, до того он, должно быть, был зол.
Доктор опять ухмылялся только одной половиной лица. Другая застыла, как маска. Мне стало дурно. Доктор схватил меня за подбородок и резко нажал, чтобы я открыл рот. Затем он сунул в него какую-то железку. Теперь я сидел разинув рот. Никто не говорил ни слова. Наставник, крепко держа мою голову, нажимал на педаль. У меня все зубы были здоровы, ни одного дупла. Но доктор сверлил и сверлил один зуб за другим, а я все время видел перед собой его полулицо-полумаску. Я даже кричать не мог, только плакал, но мне не делалось легче. После этого я двенадцать лет к зубному врачу не ходил, хотя у меня очень часто и сильно болели зубы.
Выйдя в тот день на улицу, я прислонился к забору и заплакал. Кто-то положил мне руку на плечо, и я сразу догадался — Сам.
«Не плачь, не надо! — просил он. — Ну, прошу тебя, не надо!»
Только теперь я заметил, что вся моя одежда оказалась холодной и мокрой. Мокрой от пота. Ответить Саму я был не в силах.
«Доктор злой, нехороший, и учитель тоже, — тихо говорил он мне. — Я, когда вырасту, пойду к ним и скажу. Обязательно скажу. Но теперь не плачь, пожалуйста, не плачь. Я уж им задам трепку, обоим задам, можешь быть уверен! Но теперь ведь все опять хорошо, правда?» И он увлек меня за собой, держа за руку ласково и бережно, как старший брат, хотя лет ему было столько же, сколько мне.
Ни минуты он не думал о себе, ни слова не говорил о том, как мучился сам. Главное для него было, чтобы я перестал плакать. Если бы он знал, как он помог мне тогда!
Мы чувствовали, что стали теперь друзьями и что мы совсем одни на всем белом свете. Но мне пора было спешить в приют. Наверное, меня уже давно там ждали. На прощание он протянул мне руку и посмотрел на меня своими черными глазами.
«Если хочешь, зови меня Сам, как зовет дедушка. Самуил — очень длинно».
«Хорошо, Сам, — сказал я, и это были первые слова, произнесенные мною с тех пор, как я вышел из школы. — До завтра, Сам!»
«До завтра!»
На следующий день во время перемены меня подозвал классный наставник.
В приюте я рассказал о зубном враче, и, должно быть, наш воспитатель посетил классного наставника.
«Послушай, Вернер, — медленно произнес он. — Эта вчерашняя история… лучше всего забудь о ней… Гм! Разумеется, я должен выразить сожаление в связи с тем, что мы приняли тебя за еврея. Но ты сам знаешь, все мы можем ошибиться. Надеюсь, ты сознаешь это?»
Мы молча смотрели друг на друга, и я хорошо чувствовал, что он куда охотнее накричал бы на меня.
«А теперь ты можешь идти играть с остальными учениками… Но нет, постой! Запомни: немецкий юноша не ябедничает!» Он кивнул, велев мне таким образом удалиться.
На дворе я прежде всего разыскал Сама. Он сидел на земле и рисовал пальцем какие-то странные фигуры в песке. Я опустился рядом и стал рассматривать его рисунки. Немного погодя я произнес:
«Я не еврей. Мне только что наставник сказал».
«Хорошо!» — В голосе Сама звучало разочарование.
Мне стало его жалко.
«Что хорошо? — спросил я. — Что я не еврей?»
Он пожал плечами и отвернулся.
«А я хотел бы быть евреем, — сказал я неожиданно для самого себя. — Мне хотелось бы быть твоим братом».
«Ты мой самый лучший друг».
«А ты — мой», — сказал я.
Он все еще что-то чертил на песке.
«Ты во что это играешь?» — спросил я.
«Это вот небо, — мягко проговорил он. — Ночное, конечно».
«Правда?» — сказал я, ничего не понимая.
Сам пояснял:
«Вот это луна. А это звезды уцепились за небо. Гляди, красиво, правда?»
Я кивал, но на самом деле ничего этого не видел — только песок и какие-то полоски на нем. Однако для Сама это, должно быть, был настоящий небосвод, ночной, конечно, и тысячи-тысячи звезд на нем. Он мечтательно смотрел на свой рисунок, и выражение лица у него было такое, какое, должно быть, бывало у меня, когда я начинал думать о своем дне рождения. Я вспомнил, как он впервые заговорил со мной о своей великой мечте. Каждому хорошему человеку он хотел подарить звезду. Он твердо верил, что когда-нибудь все зло исчезнет и настанет волшебное царство его мечты.
Родителей Сама уже не было в живых. Мать он совсем не помнил: она умерла при его рождении. Отец его был археологом и погиб во время кораблекрушения. Вот Сам и жил со своим дедушкой. Они снимали маленькую, темную квартирку с окнами во двор, куда и солнышко никогда не заглядывало — такой он был тесный и глубокий.
У дедушки была небольшая бакалейная лавка. В ней-то, к великому ужасу деда, мы с Самом не раз устраивали настоящие сражения. Нашим оружием были новые метлы и щетки. А то мы разыгрывали с ним целые концерты на сковородках и кастрюлях.
При этом Сам так веселился, что и я, заразившись от него, помирал со смеху. В таких случаях дедушка, отпустив по нашему адресу несколько нелестных замечаний, в конце концов выпроваживал нас, подарив по монетке.
«Ступайте, ступайте, дети! Купите себе весь мир!» — говаривал он при этом.
И мы убегали, спеша последовать его совету. Беда заключалась только в том, что никто не хотел продавать нам весь мир. И мы очень быстро уничтожали все свое состояние, обратив его в леденцы.
Так пролетели каникулы, начался новый учебный год. И очень скоро появились и первые вестники зимы — иней на деревьях, чуть смерзшийся песок. Почти все свои свободные часы мы были вместе. Мечтали, смеялись, шалили — чудесно проводили время, если бы только можно было забыть о школе. Наш классный наставник стал штурмовиком. Теперь он всегда ходил в точно таком же мундире, как зубной врач. Моя дружба с Самом, очевидно, не давала ему покоя. И он ежедневно попрекал меня ею.
Но все это было пустяки по сравнению с тем, что вынужден был терпеть Сам! Если первый урок вел наш классный наставник, это начиналось с самого утра. Он выкликал наши фамилии и регулярно не называл только одну — Сама. Затем ом щурил глаза так, чтобы оставалась только смотровая щель, как у танка, и спрашивал язвительно:
«Может быть, я забыл кого-нибудь?»
Сам поднимался со своего места, лицо, как у затравленного зверька.
«Да, меня, — говорил он, — меня вы забыли».
«Что это значит «меня»? — грубо спрашивал учитель. — У тебя что, имени нет, или как вообще с тобой обстоит дело?»
«У меня есть имя. Меня зовут Самуил. Самуил Леви».
«Да что ты говоришь? — восклицал учитель, прикидываясь дурачком. — Самуил Леви, значит. Гм. Это же звучит как-то очень по-еврейски… А может быть, ты и впрямь один из этих «евреев»?» — добавлял он презрительно.
«Да, я еврей!» — говорил Сам, мужественно глотая слезы.
«Так, так, еврей! Такой маленький и уже еврей!..»
После этого начинался урок. Но еще долго на лицах многих ребят можно было заметить гнусную ухмылку. Меня так и подмывало плюнуть им в физиономию. С каждым днем все больше учеников ухмылялись этой грязной ухмылкой. Они смеялись, видя, как Сам мучается, считая его шутом или клоуном. Но когда он хотел ответить на какой-нибудь вопрос, заданный учителем, тот делал вид, будто Сам вообще пустое место. Впрочем, Сам не сдавался, не впадал в отчаяние, а только учился еще прилежнее. Он учился лучше нас всех. Никем в моей жизни я не восхищался так, как я восхищался Самом. Когда же, бывало, Сам не знал ответа на какой-нибудь вопрос, учитель тут же вызывал его к доске:
«Леви!»
Сам, опустив глаза, тихо говорил:
«Я не знаю этого».
«Не знаешь? — подхватывал тут же учитель. — Великолепно! Значит, не знаешь? — Потом он начинал кричать: — За что же тогда, по-твоему, платит национал-социалистское государство? За то, чтобы ты, как пиявка, высасывал из нас кровь? И ничего не делал, а? За то, чтобы ты жил как паразит?! Пять![6] Дневник».