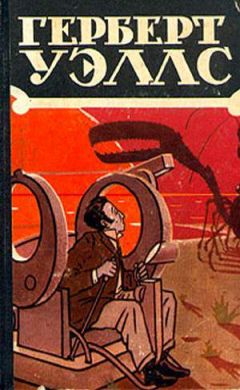Анатолий Ткаченко - Мыс Раманон
Русик отложил удочку и, слегка приоткрыв рот от смутившего его удивления, принялся рассматривать белокожего мальчишку. Белого и черноволосого. Отличного пловца, чемпиона по шахматам. Вундеркинда. Слово такое Русик слышал, но чтобы видеть живого... обычного... Должно же быть в нем что-то, чего совсем нет у других. Ну бледный. Ну первый раз приехал на юг... Русик глянул в глаза мальчишки, карие, с необыкновенно большими зрачками,— увидел в них себя перевернутого, золотистого, море и небо — и не выдержал внимательного, нервно мерцающего напряжения этих глаз. Понял вдруг: они грустные, усталые и грустные. Вундеркиндам, наверное, приходится много думать, все другие должны уважать их за это, а не толкаться, если даже спасаешь от морской собаки. Русику захотелось извиниться — он-то, кроме как читать по складам да рыбу удить, ничего пока не умеет, — и Русик, опять увидев себя в зрачках мальчишки — маленького, золотистого, перевернутого, — сказал:
— Я тебя с дедом Шаландой познакомлю. Это про него песню сочинили «Шаланды, полные кефали...».
— Серьезно?
— Весь город знает. — Русик вытянул руку в сторону мыса, теперь засизовевшего в горячем мареве: — Во-он там, на черных камнях, рыбак стоит, такой скрюченный, видишь? Он, Шаланда.
— «Синеет море за бульваром...» — тихонько запел Юлий и сразу осекся: голоса у него не было, и не пел он вовсе, а декламировал. — Ты мне каштан покажешь?
«Ага, не все ты умеешь, не все видел», — подумал Русик, немного стыдясь своей радости, зато ответил с охотой и серьезно:
— Каштан, платан, акацию, чертово дерево — все, что захочешь. Платан моя мама называет еще чинарой, а чинару — бесстыдницей: всегда голая, кора почему-то облазит.
Из-за громоздкого мыса слева, на котором белым столбом со стеклянной макушкой под красным козырьком высился маяк, медленно выплыл, будто не касаясь воды, пассажирский пароход, высокий, с тысячами иллюминаторов, серебристый от ватерлинии до верхушек мачт; труба — как хвост реактивного самолета, только крыльев не хватало, чтобы полететь. Немо, отрешенно он стал удаляться в морскую непроглядность, точно навсегда покидая землю.
Юлий протяжно вздохнул, забывчиво и грустно улыбаясь.
— Электроход «Одесса», новый, — сказал Русик. — А мой папа на танкере «Орел», в загранку ходит, матрос первого класса. Танкер — работяга, а этот — красивый, для туристов, с ресторанами, танцами...
— В хорошем городе ты живешь, Руслан.
— Мы недавно в городе. Тут смотри, везде дома отдыха. Шаланда говорит, нас подсоединили, чтоб миллион был: когда миллион — снабжение лучше. Некоторые не хотят быть городскими, сады им важнее, другие радуются — зато трамвай есть.
Не слушая или не слыша, Юлий смотрел на отдаляющийся, тускнеющий электроход в слепящей до слез дымке и, не теряя прежней улыбки, говорил:
— Мама записалась во все экскурсии: по историческим местам, Морской музей, Археологический, катакомбы... Хочу увидеть Потемкинскую лестницу, Приморский бульвар... Я много читал о Черном море, теперь искупался в нем. Оно лучше, теплее, чем даже я представлял, но пустое ведь — рыбы почти нету, мало. Ты знаешь, почему? В глубине вода заражена сероводородом, таким газом, от него все живое погибает.
— А бычок, ставридка, кефаль?
— Это возле берега, сверху. Вот наше Печорское море — как мешок с рыбой. Льды и рыба, тюлени. Приезжай, нельму поймаешь! Собаки у нас по тундре бегают.
— Ладно, подрасту когда.
Русик забыл, про удочку, слушал Юлия, уже по-настоящему веря, что он вундеркинд: о Черном море знает, может, больше, чем сам Шаланда, все читал, все хочет видеть, понять. Он, пожалуй, и над Русиком посмеивается: тоже мне местный житель, родился здесь, столько лет прожил, а мало смыслит о своем море! Оказывается, оно только для пароходов и купания хорошее. И плавал Юлий не хуже других; нырнул и поплыл, словно по родному Печорскому. И город он будет лучше Русика знать: поживет в Будынке твирчисты двадцать четыре дня, много раз съездит в город, накупит книг в музеях, сувениров, посмотрит исторические места... Он сверхспособный. Надо хоть чем-то удивить его, чтобы не очень уж сильно презирал здешних мальчишек, которые не виноваты, что Черное море в глубине отравлено. Зачем вообще про моря выдавать такие тайны?
— Хочешь, наворуем персиков? — сказал Русик, трогая руку Юлия.
— Наворуем?
— Ну да... за так возьмем.
— Мама купит, если я попрошу.
— Чудак! Их же еще не продают, зеленые. А я заметил одно дерево, вон там, у Страхпома. Так хозяйчика вредного зовут. — Русик показал на высящийся уступами берег с дощатыми домишками в плотных зарослях садов, акаций, платанов, с рыжими глинистыми оползнями. — Не бойся, я сам полезу. Дворняжка старая, глухая... Мы все равно фрукты не покупаем.
— Н-не знаю. У мамы спрошусь.
— Так тебя она и пустила! Отругает еще. Скажи, погулять немножко захотел.
Юлий глянул на громоздкий береговой склон, то зеленый, то обрушенный, как ранами зияющий желтой глиной, с узенькими тропинками, затененными двориками, и, вздохнув чуть огорченно, кивнул Русику.
Они спустились на разогретую солнцем гальку пляжа, подошли к матери Юлия. У нее уже заметно розовела спина, и Русик хотел сказать ей, что сразу много загорать опасно, можно даже заболеть, но не осмелился, очень уж она была дальней-дальней, белой и черноволосой, не похожей на всех местных женщин. Юлий заговорил с матерью, почти не слушавшей его, а Русик, оставив возле поролонового коврика сумку и удочку, зашагал потихоньку в гору, чтобы не мешать чужой беседе и чтобы у Юлия было больше решительности: видишь, я уже пошел, догоняй, не трусь!
Он шлепал босыми ступнями по горячей жесткой тропе, чувствовал, как с каждым шагом жарче, душнее становится в сплошных зеленых зарослях — сюда не поднимался морской воздух,— и думал уже, что не придет Юлий, но тот догнал его, часто дыша, пошел молча рядом. На нем была рубашка, шорты, тапочки. Правильно сделал Юлий — только местным можно ходить в трусах и босиком, кожа у них до самого нутра пропеченная.
Изгородь из проволочной сетки, виноградные лозы с разлаписто-широкими листьями и зелеными гроздьями ягод, окно в коричневой стене дома — все это возникло так внезапно за поворотом тропы, что Юлий остановился и присел на корточки. Чуть подтолкнув в плечо, Русик поманил его в сторону, под густые ветви акаций, взял за руку, и, пригнувшись, они стали пробираться к проволочной изгороди с другой стороны.
— Вон, смотри, какая дыра, — зашептал Русик, не отпуская руки Юлия. — Не думай, не я проделал. Это работа Витьки-дурохода, я просто выследил... А вон то дерево. Витька обобрал почти что. Какие персики, а? Почти спелые. Такое дерево раннее, понял?
Юлий выдернул свою руку, поднялся во весь рост, будто хотел, чтобы его заметили из-за сетчатой изгороди, и, бледнея до бумажной белизны, отчего глаза у него засветились черными огоньками в зеленых сумерках рощи, сказал быстро и внятно, как старший, когда наставляет младшего:
— Ну, Руслан, потренировались, и хватит, ладно? Ловкий ты парень, доказал. А брать чужое стыдно. Человек выращивал, трудился... И дерево, погляди, какое красивое: листья — прямо ладошки растопыренные, а в ладошках — желтые пушистые птенцы. Спасибо, что показал. Пошли теперь купаться, бычков и водяных собак ловить.
— Чо-о? — потрясенно удивился и тоже выпрямился Русик. — «Человек выращивал, трудился»... Ха! А ты видел? Он по двадцать отдыхающих принимает, мама говорила. Дочку с ребятишками выгнал, «Жигули» купил и еще... еще женился. А старуху свою, все говорят, в сумасшедший дом засадил. Вот тебе, как трудился! Кто ему поверит, что в загранку ходил, старпомом работал? Страхпом настоящий!
— Все равно. Это не наше дело. Воровать нельзя. Пусть милиция с ним разберется, если он плохой.
— Участковый у него водку пьет! Понял, вундеркинд?
— И понимать не хочу, Руслан, пошли, не позволю тебе...
За изгородью заворчала и хрипло, по-стариковски, гавкнула собака. Тут же осторожно хлопнула дверь, и по твердой, мощенной камнем дорожке застучали негромкие, отчетливые шаги. Шаги настороженные, но тяжело-уверенные. Человек шел за деревьями своего сада и, пожалуй, до времени хотел быть невидимым.
Русик и Юлий мгновенно присели, отползли в заросли бузины и боярышника. Затихли, глядя сквозь листву на проволочную сетку. И за нею появился человек. Нет, не бородатый и свирепый, не с маленькими желтыми злыми глазами, как пишут о таких в книжках, а рослый, чисто выбритый, с густой седоватой прической, не старый еще мужчина. Он был в белой расшитой украинской рубашке навыпуск, в дорогих импортных техасах и коричневых полуботинках. Ни злости в глазах, ни свирепости на лице. Человек, словно прогуливаясь, подошел к персиковому дереву, погладил ствол ладонью, оглядел ветви, заговорил ласково: