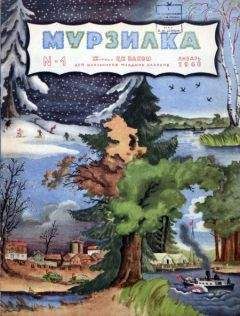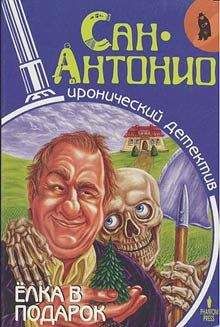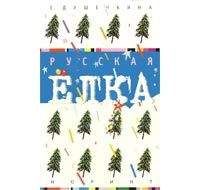Андрей Упит - Пареньки села Замшелого
Хворь у скота тоже можно было лечить заговором; от колик и вспучивания, к примеру, другого спасения не было. Но случались и такие напасти дома и на воле, которые можно было предотвратить загодя. Надобно только знать средство. Ежели отхлестать скотину ведьминой метлой, то это убережет ее от прострела. Ежели на дверях хлева начертить углем крест, то нечистая сила не посмеет туда сунуться и не станет до полусмерти загонять скотину. От пожара спасали вырезанные на косяках дверей и окон ломаные кресты или гнездо аиста на коньке риги. Там, где селилась эта длинноногая птица, пожаров не бывало. Круглую дырку в земле от громовой стрелы следовало затыкать вымоченным в заговоренной воде колышком рябины — тогда конь не зашибет ногу на поле и зубья бороны не будут ломаться, как лучинки из высушенного на печи полешка.
Зато больше всего хлопот доставляли замшельцам колдуны и ведьмы, оттого что против них не было таких верных средств, как, к примеру, сваренное знахаркой снадобье от надсадного кашля или боли под ложечкой. Не было от них и такой надежной защиты, как заклятье от воров. Поэтому «ведьмины плевки» на старом осиновом пне обтыкали можжевеловыми колышками, чтобы ненароком их не коснулись дети или скот, покуда эта погань не высохнет и не превратится в трутовики, в точности похожие на человечьи уши. Ну, а если к тому же окурить их пылью гриба-дождевика, то почти без всякой опаски можно на том месте жечь костер. Зато уж ни в коем случае нельзя было дотрагиваться до валяющейся где-нибудь на тропинке лошадиной челюсти или до подброшенного в крапиву яйца-болтуна — все это были ведьмины штучки; они валялись до тех пор, пока сами собою не исчезали, словно их и не бывало. Витень из спутавшейся ржи просто-напросто со всех сторон обкашивали, и так он стоял, покуда осенний ветер не погнет и не сломает колосья, а птицы не выклюют все зерна. Ведь той твари, что летает по воздуху либо в воде живет, не страшны ни колдуны, ни ведьмы.
Так вот жили и сражались со своими напастями замшельские мужики и их жены. С одной бедой и не столь бы трудно управиться, но как быть, коли навалится их на тебя чуть ли не целый воз? Вот уж где горе так горе! Когда в печи раз за разом подгорает хлеб, коровы одна за другой скидывают, у овец среди зимы лезет шерсть, боровы болеют крупкой, когда ребята вповалку валяются в жару и надсадно кашляют, а пиво скисает и под мартынов день и под рождество, — тут и дитя малое поймет, что в доме, а может, уже и во всем селе орудует нечистая сила и что остается лишь одно-единственное средство от наваждения. Кому-нибудь из замшельских мужиков надобно объехать всю округу Большого леса, найти цыган с медведем и упросить их, чтобы немедля отправились в Замшелое. Ведь медведь приносит счастье и творит чудеса. Ежели он обойдет все углы и закоулки, то всякая нечисть сгинет и под кровом вновь воцарятся мир и лад. Так оно было и в ту зиму, но тут, по сути дела, только начнется рассказ трех старожилов о самом Замшелом и о живших в нем пареньках.
Лютая зима
Такой снежной и суровой зимы в Замшелом не помнили даже старики.
До глубокой осени ни снежинки не выпало, еще на мартынов день стояла такая теплынь, что озимая рожь поднялась выше щиколотки. Капусту сняли и заквасили только к андрееву дню; о ту пору клены сбросили последние листья, так и не дождавшись заморозков. Куры опять стали нестись, овцы наплодили ягнят, а ведь обычно их ждали только перед самой масленицей. Почти что за месяц до рождества лесная речка бурлила, точно весной.
В Замшелом даже малые дети понимали, что все это не к добру. На женских сходках только и разговоров было, что о дурных снах, предвещавших беду. Мужики уже выпили все доброе пиво, выкурили крепкий табак и просто голову ломали: за что бы взяться? Распахивать осенью землю среди замшельцев почиталось величайшим неразумием: ведь земля-то все равно слежится и станет твердой, как точило, — проборони этакую весной, попробуй! Вроде надо бы свезти в ригу лен, хлеб-то уже обмолочен, колосники пустуют. Но куда его тут по теплой погоде мять? Треста сыреет, и колотушка ее не берет: бьешь-бьешь — хоть всю льномялку в щепу расколоти.
Но вот недели за две до рождества наступили холода, без ветров и слякоти, как бывало прежде, а за одну ночь все вокруг будто в ледяные клещи зажало. Под вечер речка умолкла, озерцо на заливном лугу покрылось льдом, гладким, как стекло; поутру еще в потемках ни одного мальчишки дома не сыскать, и матери, что-то пряча за спиной, грозно поглядывают в дверную щель, дожидаясь минуты, когда можно будет поучить уму-разуму этих неугомонных озорников.
Небо нависло свинцовой крышкой, но в воздухе не было ни ветерка и ни единой снежинки. Три дня кряду мороз все крепчал, на четвертый стали подымать вороты кожухов и шубеек, даже когда пробегали по двору до конюшни покормить лошадей. На пятый день все окошки заморозило наглухо, трубы дымились допоздна, вороны опускались на крыши, чтобы хоть как-нибудь обогреться, в хлеву окаменел навоз, у колодцев наросли ледяные горки.
Две недели стоял такой трескучий мороз, что в Замшелом вышли все запасы дров. После праздников мужики, пыхтя и то и дело оглядываясь, побежали в засохший ельник по дрова. Да уж какая тут рубка, коли полушубок не скинешь, а на руках по две пары рукавиц. И что это за возка на телегах! Только колеса поломаешь да лошадь загубишь. Нет, замшельские мужики не привыкли дурака валять. Не прошло и трех дней, как все воротились домой, и теперь уж ни лаской, ни бранью женам не удавалось выгнать их за порог. Малость нарубили — и хватит; а свезут мальчишки, им-то полегче скакать по растреклятым корневищам да буграм, и, коли прихватит морозцем, не беда: озорство из головы повышибет.
То ли дело большие заработки в Черном лесу. Туда бы можно уже пойти и работа стоящая, да ведь кто же в здравом уме из дома вылезет при этакой ледяной стуже… Надо бы еще повременить. Вот как снег выпадет, мороз поослабнет, тогда в самый раз — не придется людям идти на верную погибель.
Так сидели замшельские мужики по домам и ждали, когда уймется мороз и можно будет идти на заработки. Табак давным-давно выкурен, пиво выпито, про войны, воров и лошадей все переговорено — выходит, и собираться мужикам больше не к чему. А поэтому они прохлаждались дома: либо на кровати полеживали, либо под ногами у хозяек путались, так что женам некуда было приткнуться — ни тебе у соседки посидеть, ни путным словом перекинуться. Если и встречались где-нибудь ненароком две соседки, то разговор между ними шел примерно такой:
— Доброго утречка, сестрица! Как живешь?
— Здравствуй, здравствуй! Да так… А ты?
— По-старому. Скажи-ка, твой еще не надумал?
— Какое там! Ума не приложу, что будет, когда мясо поедим!
— Мясо! Моему гороховую похлебку подавай! А где я горохом разживусь? Что, он у меня в закромах растет? Чистое наказанье, милая!
— А то как же, хорошая моя, а то как же!
До чего же милыми и хорошими казались они друг дружке, когда заводили речь о мужьях! Такие же разговоры вели и остальные замшелки, с той лишь разницей, что вместо мяса и гороха иной раз упоминались густые щи с крупой и печеная картошка.
Но вот в середине января как-то ночью выпал снежок. Воротясь из хлева, женщины возвестили об этом так радостно и громко, что даже ребятишки проснулись и завертели головами. Мужчины повылезли из своих убежищ и высунули нос на двор. И впрямь земля белая, но только чуть припорошена. Разве это снег? И мороз почитай что не убавился. Однако ж слово есть слово… Весь день замшельцы занимались сборами в дорогу: натачивали топоры, правили пилы, пеньковой веревкой чинили лапти, проверяли, что положено в туеса, что в торбы. Жены бегали по соседям посмотреть, какие припасы даются там в дорогу и в каком количестве, хватались за штопку и чинку, пришивали пуговицы, колотили вальком мужские рубахи, чтоб помягче были.
До позднего вечера Замшелое стучало, грохотало, бухало, шипело и дымилось, благоухало жареным мясом и щами. Наутро, с зорькой, подняв воротники, надев по две пары рукавиц, мужики скопом отправились в путь. Снег больше не шел, и мороз не убавлялся. Жены дули на заиндевелое стекло и через глазок глядели вслед мужьям и вздыхали, когда лесорубы скрылись из виду. Даже ребятишки целый день куксились.
Первую неделю после ухода мужиков на заработки в Замшелом было пусто, тихо и уныло: то прорвется у кого-нибудь печальный вздох, то скатится горькая слеза. Каждой из хозяюшек казалось, что она проводила мужа не в дорогу на большие заработки, а прямехонько на кладбище. Теперь уж при встрече соседки заводили иной разговор:
— Ох, я дурная голова! Всего-то три пары шерстяных портянок положила. А ноги у него слабые, не ровен час, вконец застудит.
— Ноги! Вот мой трубку на окошке забыл, а без трубки он ни за что не уснет. Где ж были мои глаза?!