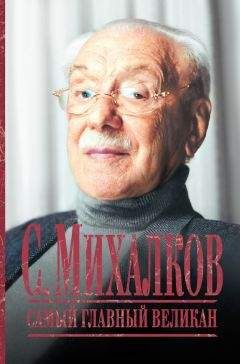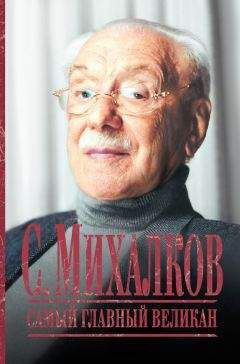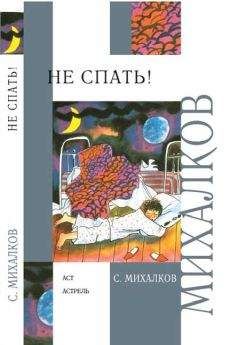Варлаам (Вадим) Рыжаков - О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках
— Зябко, Гринь. Страшно.
— А ты, Сань, полюби тоже, а? И мороз будет не в мороз.
— Что-то не хочется, Гринь.
— А ты подумай, подумай о ней — и полюбишь.
— Ну, подумал.
— И ничего?
— Чуточку чего-то.
— А ты о ком думал?
— О Маринке.
— А ты не о ней. Маринка моя. Я ее уже зачурал. Ты о другой. О Нинке. Она тоже хорошая.
— Она больно толстая, Гринь.
— Выправится, Саиь. Влюбится и отощает.
— Вот разве отощает…
— Обязательно. Любовь — она кого хочешь высушит.
— И меня?
— Тебя нет, Сань.
— Это что же? Ее высушит, а меня нет?
— А чего тебя сушить-то? У тебя и так одни мослы.
— У самого-то? — обиделся я. Гринька с сожалением вздохнул.
— И у меня, Сань. Загрустил. Сказал раздумчиво:
— Девчонки — они любят здоровых.
Я осмотрел свои бицепсы, сравнил себя с Нинкой и тоже опечалился.
— А что, Сань? Давай спортом займемся?
— А как, Гринь?
— У нас в сарае гиря есть. Пудовая. Поднимать, опускать. Руки будут — во! Грудь — во!
— Балда, чего же ты раньше-то молчал. Тащи.
— Сейчас, Сань.
Гринька схватил шапку, побежал.
Их дом был напротив нашего, а сарай за домом, на приусадебном участке. В окно я увидел Гриньку. Вот он подбежал к сараю, снял замок и пропал.
Жду пять минут, десять, двадцать — нет. Прошел час, наверное, Гринька не показывался, что он там, умер, что ли?
Наконец появился. Пальто в земле. Выкатил гирю. Поставил ее, ухватился обеими руками, растопырил ноги — зашагал, зашагал и бросил. Тяжело. Поднял опять. Пошел, пошел, снова бросил. Вернулся в сарай. Вышел с санками.
Гиря действительно была неприподъемной. В комнату мы ее втаскивали вдвоем.
А чего ты в земле весь вымазался? — спросил я.
— Чего-чего. Отец забросил ее на настил. — Гринька сердито пнул валенком гирю. — Я сошвырнул ее оттуда. А она, как бомба, ух! — и прямо в железный чан. Я ее еле выволок оттуда.
Гринька смахнул рукавом пот с лица, сказал:
— Попробуй-ка подними.
Я уцепился за гирю, с трудом оторвал ее от пола, покачал и бросил. Пол дрогнул, с потолка посыпались опилки.
— Что?! — заулыбался Гринька.
— Хороша.
— Давай вдвоем?
— Давай. Приподняли.
— Выше, выше, — командовал Гринька, — выше. И не удержали.
Раздался треск. Гиря улетела в подполье. Возле наших ног, в подгнившей доске, зияла огромная черная дыра. Запахло влажной землей, прелью и… поркой. Настроение упало. Я взглянул на часы.
— Скоро отец придет.
— Гулять охота, — позевнул Гринька.
— А гирю?
— Пусть она, Сань, там полежит. Что ей сделается? Вечерело. Синеватый снег, синее продрогшее небо. На улице ни души. Только я да Гринька, мороз и луна — большой выпуклый глаз тишины.
— Куда мы идем, Гринь?
— В верхний конец.
— Любовь крутить, да?
— Поглядим на их дома, на окна, а случись — и их увидим.
— Эка невидаль. В такую-то стужу.
— Это потому, Сань, что ты еще не совсем полюбил.
— У меня, Гринь, коленки прихватывает.
— А ты их, Сань, варежкой потри, варежкой.
— У меня, Гринь, и руки-то не корчатся.
— И у меня, Сань.
— Тебе хорошо. Ты любишь.
— И ты, Сань, полюбишь. Терпи.
— А долго?|
— Тихо.
Гринька впился глазами в окошки. А чего впился? Стекла как простыней закрытые.
Скрипнула дверь. На крыльцо вышла бабушка Орина. Выплеснула из ведра помои и скрылась.
— Вишь, — шепнул Гринька посипевшими губами, — бабушку уже увидели.
— Ну и что?
— И девчонок, может, увидим.
— Домой бы.
— Хлипкий ты, Сапь.
— Сам-то позеленел.
— Позеленел, а домой пе хочется. Я вчера до-о-олго гулял. И ничего. Уши только немного припухли. Зато видал.
— Девчонок?
— Ага. Они от Маринки пробежали к Нинке. Смеются.
— А ты?
— И я улыбаюсь.
— И все?
— А чего же еще-то? Пойдем к Нинкиному дому сходим.
— На бабушку Матрену посмотреть?
— Черствый ты, Сань. А друг тоже. Не можешь ты любить.
— Я бы, Гринь, полюбил, да уж больно дюжий мороз-то. У тебя вон и брови-то побелели, а девчонок-то нет.
— Они выйдут, Сань. Они тоже нас любят.
— Не знаю, Гринь. Я чего-то не видал, чтобы они около нашего дома толкались.
— Они девчонки — стыдятся.
— Как хошь, Гринь, а я домой пошел. А ты оставайся. — Я погуляю, Сань.
Гринька содрогнулся от озноба, съежился и, хлопая рука об руку, зашагал к Нинкиному дому.
Я постоял в раздумье и вприпрыжку побежал домой. Не околевать же из-за этой любви.
В дом к себе я вошел, как в чужую избу, — робко. Остановился у порога.
Отец плотничал — заменял в полу доску.
— Явился? — спросил он, вынул изо рта папиросу. Строгости в его голосе не слышалось, и я немного осмелел.
— Явился, пап.
— Какой-то бес пол у нас изуродовал. Ты не знаешь?
— Я это, пап. Прыгнул со стула и…
— Не ушибся?
Отец улыбнулся. Я опустил глаза.
— Не, пап. Нисколечко.
— А гирю-то пошто прихватил с собой?
— Какую гирю?
— Вот эту.
Отец указал в угол. Я покосился.
— С Гринькой мы, пап. Мы это…
Я усиленно задвигал руками и пощупал свои мускулы.
— Геркулесились, — с усмешкой подсказал отец.
Я молчал. Непонятное слово. Кто его знает, что оно обозначает.
— Сил, говорю, набирались?
Я поспешно закивал головой.
Отец примерил доску, взялся за пилу, ворчливо, но добродушно сказал:
— Вытянулись жеребята, а ума не достали. Все бестолковщину толчете. Нет бы матери помог. Воды бы натаскал, дрова бы вон пилили, кололи. И полезно и здорово. А то с гирей надоумились ворочаться.
Отец был в майке. Он положил доску к себе на колени и начал пилить. Пила аппетитно впивалась в доску, выплевывала густые рыжие опилки. На руках отца под кожей волнуясь играли упругие мускулы.
«Вот где силищи-то, — с завистью думал я. — Мне бы».
— Чего стоишь, помогай.
Я обрадованно смахнул с плеч пальто. Хороший у меня отец, незлобливый. Придерживая доску, спросил:
— Пап, а правда, что девчонки сильных любят? Отец засмеялся.
— Ясно, не заморышей.
Он опустил пилу и как-то подозрительно заглянул мне в лицо.
Целую неделю мы с Гринькой пилили и кололи дрова то у него, то у нас.
— Горячо взялись. Ох горячо! — тревожилась мать. — Опять жди беды.
Отец усмехался, успокаивал.
— Время приспело к работе.
Он невзначай брал меня за руку повыше локтя, озорно подмигивал.
— Копится силенок-то?
— Не очень, пап, — сокрушался я.
— Ничего. Не сразу и Москва строилась. Аппетит к еде волчий — и сила будет звериная.
«У меня-то волчий, — думал я, — а вот у Гриньки…»
Дохлый он какой-то стал и грустный. Да и то сказать — загрустишь. Из кожи лезет — старается учиться, дрова наравне со мной пилит, а по вечерам отдохнуть бы — гулять плетется. И чего он только так тянется к этой кнопке — Маринке? Не пойму. Мне так вот она ни чуточку не нравится. Черномазая какая-то, как будто неумытая всегда. А нос задирает, что твоя королева. Я бы ей давно навтыкал, чтоб не задавалась, да Гриньки боюсь. Он совсем ошалел. На одни пятерки учится.
Я, поди, тоже, наверное, полюбил Нинку-то, а ничего — даже аппетита не лишился. И по вечерам не толкусь возле ее дома, чтоб поглазеть на нее. Что она, картинка, что ли? И в школе нагляжусь. Тоска.
В субботу Гринька явился в школу с распухшим носом.
— Нагулялся, — попрекнул я его, как только он сел за парту.
— Прихватило малость, Сань.
— Как следует, Гринь.
— И заметно?
— Сказал! Как головня горит. Сунь в воду — зашипит.
— И блестит, Сань?
— Блестит, Гринь, как хромовый сапог начищенный.
— Это мать сметаной намазала.
Гринька плюнул на обшлаг рукава, потер им нос.
— А сейчас?
— Как и было.
— Не везет мне, Сань.
— Не больно везет, Гринь.
— Разлюбит она меня.
— А уж полюбила?!
— Пора бы, Сань. Я ее вон как долго люблю.
— А меня Нинка, наверно, еще нет. Да, Гринь?
— Рано еще. Да ты и плохо любишь, Сань.
— А отколь она знает?
— Чует.
— Нужна она мне, квашня.
Я отодвинулся на край парты, открыл учебник.
В класс вбежала Маринка, а за ней, переваливаясь, как утка, с боку на бок, вошла Нинка. Зеленая косынка съехала на шею и висела хомутом. Портфель, набитый до отказа книгами, не закрывался, и она несла его, обхватив руками.
При их появлении Гринька оживился, но тут же погас. Вспомнил о своем корявом носе, отвернулся к окну. Однако это его не спасло. Поравнявшись с нашей партой, Маринка остановилась, съязвила:
— Здравствуйте, синьор помидор!