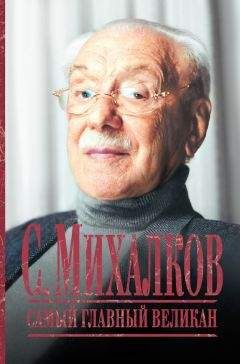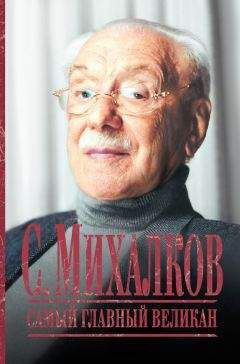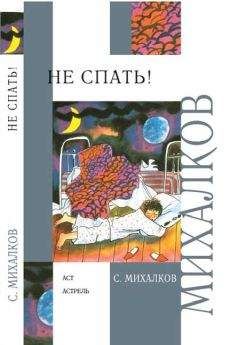Варлаам (Вадим) Рыжаков - О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках
Лязг зубов. Повизгивапие.
— Тарзан!
Я схватил его и прижал к себе.
— Ты не убежал, да? Ты не бросил меня, да?
Тарзан вырвался и снова потянул меня за подол пальто, заурчал.
Я тревожно сел.
— Тарзанка, что ты?
Собака обнюхала мое лицо и сердито затявкала.
Превозмогая боль, я поднял пальцами веки. Блеснул мутный свет и, дрогнув, погас. Мелькнула надежда, и тут же обуял страх. Куда, в какую сторону идти?
Встал.
Тарзан радостно заскулил и запрыгал. Уперся передними лапами в мою грудь, лизнул мой подбородок. Я поймал его, нащупал на шее веревку. Он только этого и ждал. Веревка натянулась.
— Тарзанушка, умница.
Я понял, что он выводит меня из лесу домой. В деревне мое появление взбудоражило всех не меньше, чем пожар.
Подбежал запыхавшийся Гринька.
— А ружье где? — И замолк. Заикаясь спросил: — Разорвало?
— Не знаю.
— Наверно. У тебя все лицо вздутое и как чугун…
— Черное?
— Тише. Отец твой.
У меня задрожали ресницы.
— Папа…
Отец взял меня на руки и быстро зашагал.
— Глаза-то хоть видят?
— Немножечко, пап.
Отец помолчал.
— Непутевый ты уродился. В меня, что ли?
— Наверно, пап.
— Похоронишь ты свою мать заживо.
— А ты не говори ей, пап.
— Я не скажу. Твоя голова ей все скажет.
В больнице врач открыл мне правый глаз, и я увидел печальное лицо отца. Врач спросил:
— Видишь?
— А как же.
Открыл второй глаз.
— Видишь?
— Слеза текет.
— А свет?
— Свет вижу. Желтый.
— Счастливо отстрелялся, охотник.
Гринькины тревоги
Болел я до обидного недолго. Все люди болеют как люди, а на мне заживает, как на кошке. Не любит меня хвороба да и только. Иногда вроде бы и подцепишь грипп, нос уже завалит — дышать нечем. Еще бы самую малость — и можно в школу но ходить. Так нет. Чихнешь раза два, высморкаешься как следует — и все прошло. И голова никогда не болит. Ну что это за голова! Вон у отца чуть ли не через день в висках стучит. А у меня хоть бы разок стукнуло.
И так вот всегда.
Кому охота похворать — не хворает, а кому страсть неохота — из больницы не вылазит.
Мать как-то порезала хлебным ножом палец на правой руке, так целый месяц охала. Палец неделю нарывал, неделю прорывался нарыв, а потом прорвался и две недели подживал.
Ежели бы у меня так-то.
Но у меня так не болит. А то бы я весь ходил в болячках.
Однажды, верно, и у меня вскочил чирей. Огромный такой. Но бестолковый. Выскочил не на пальце и не на ноге, а на шее. Нашел тоже место. Какой от него прок на шее-то? Только учителям в школе радость. Преподаватель по литературе посмотрел тогда на меня и многозначительно изрек:
— И от фурункулов, оказывается, бывает польза великая. После урока он подозвал меня к столу и все внушал, что чирей-де трогать никак нельзя, а резать и тем более. Что яблоку необходимо назреть, тогда оно упадет само.
Но я не послушался совета и тут же сходил в больницу. Охота больно сидеть на уроках истуканом.
— Разрезал все ж таки, — строго спросил учитель на другой день, когда я обернулся на заднюю парту.
Я встал.
— Разрезал, Пал Петрович.
— Оно и видно. Садись.
— Он уж подживает, — улыбаясь во весь рот, сообщил я.
— А жаль.
Класс всколыхнулся от хохота. Но я не обиделся. Пал Петрович — он шутник. Его все любят. И я тоже, хотя и живем мы с ним не особенно дружно. Я-то ничего. Он что-то все сердится.
В прошлом году он задал нам на дом прочитать «Тараса Бульбу» и рассказать своими словами. А я не прочитал. Почему? Не помню. И конечно, он меня вызвал к доске, спросил:
— Понравилось произведение Гоголя?
— Ище как, — не моргнув соврал я.
— Рассказывай.
— Чего?
— О чем читал.
— О Тарасе, — шепнули с первой парты.
— О Тарасе, — повторил я.
— И что же?
Я молчу, уши навострил. Шепот:
— У него было два сына.
— У него было два или три сына. — «Три» я добавил на всякий случай. Я недослышал сколько.
— Что? Повтори-ка.
На задней парте Гринька показал два пальца.
— У него было два сына.
— Так, продолжай.
Я прислушался. Ни звука. Плохо. Начал соображать. Почти все взрослые книжки кончаются женитьбой. Гоголь был серьезным писателем, значит, должен кончить как и все.
— Что же дальше было?
— Дальше?
— Да.
— Тарас женился на Бульбе.
— О-о-о! — вскрикнул учитель и под громкий хохот выбежал из класса.
Во время перемены в преподавательской раздавались стоны. По классам учителя расходились с опозданием, с заплаканными глазами.
Павел Петрович зашел к нам за портфелем, сказал:
— Памятник тебе, Щепкин, надо поставить.
Повернулся и молча вышел. С тех пор он часто вспоминал обо мне. Я его, как видите, тоже не забываю.
Не был в школе всего десять дней и уже говорю о нем. А у меня есть события и поважнее.
Во-первых, все мальчишки нашего класса ходили к арифметичке колоть дрова. Настукали дров, говорят, не так много, а конфет съели целую поленницу. Мне и то принесли — вкусные.
Во-вторых, Тарзан теперь мой и никому я его не отдам. Я сделал во дворе для него конуру (отец велел), но Тарзан в ней мало бывает, а больше со мной в комнате. Он стал гладким. Поправился. Предан мне, как собака. И удивительно: у него появилась злость. Тронешь меня — зарычит. Прошлый раз Васек в шутку толкнул меня, так ушел домой со слезами: Тарзан отхватил у него полштанины.
В-третьих, и это самое ужасное, Гринька влюбился. И на этот раз, пожалуй, без возврата. Влюбился по самые уши. Эх, Гринька, Гринька. Жалко мне его. Друг все ж таки. Но что поделаешь? Он и сам не рад. Он и сам не понял, как все произошло. Он вообще в этом смысле бестолковый. Полюбит и сам не знает за что. Увидел девчонку незнакомую и сразу втрескался. Разве так можно?
— Не, Сань, я не сразу, — оправдывался Гринька.
— Как же не сразу, коли она только приехала.
— Она, Сань, не только. Она в тот день, как мы на охоту ходили.
— Слышал. К бабке Орине?
— Ага. Ее дед привез. Она дочь его дочери. Говорят, ей чистый воздух нужен.
— А что, Тринь, или уж в городе нет его?
— Отколь я знаю. Значит, нет, когда привез.
— И она в нашем классе учится?
— В нашем.
— Она красивая, Гринь?
— Красивая, Сань, страсть! Маленькая. Глаза, как черные тараканы, юркие. А башковитая — ужас. Что ни спросят на уроке — все знает. Но просмешница.
— И любовь крутит?
— Нет, Сань, она не крутит, это я кручу.
— А она знает?
Гринька испуганно округлил глаза.
— Ты что… Не вздумай сказать.
— Надо, чай.
— А то просмеет, как тебя.
— Меня?
— Ну да. Девчонки рассказали ей, что ты по глухарю пальнул из самопала, а она и говорит: «Вот как, у вас и вундеркинды водятся».
— А по губам она не хочет?
— Ты, Сань, не тронь ее.
— Это почему?
— Не тронь и все.
— А я не погляжу, что она твоя любовница.
— Сам ты любовник, губан.
— А ты не ругайся.
— А ты не грозись.
— Ну и уходи из нашего дома.
— Ну и уйду.
Гринька сгорбился и шагнул к порогу, обернулся.
— Смотри!
Он вытянул вперед руку и, показав мне измазанный в чернилах кулак, вышел. Я подошел к окну.
Гринька сошел со скрипучих ступеней крыльца и грустный, какой-то задумчивый побрел вдоль улицы.
«Видно, нелегко любить, — подумал я, провожая его глазами. — Зря мы поругались».
Я думал, что Гринька теперь долго не покажется в нашем дому, по он пришел на другой же день под вечер. Я готовился в школу — собирал портфель.
— Сань, я не обижаюсь, — сказал он.
— Я тоже, Гринь.
— Знаешь, горько что-то.
— Из-за Маринки?.
— Из-за нее, Сань. Двойку я сегодня схватил по географии.
— Так и что? Не впервой.
— Обидно.
— Подумаешь.
— Она подошла в перемену ко мне и говорит, да громко, на весь класс: «Такой большой и так плохо учишься. Постыдился бы». И никто ни слова.
— А ты что?
— Что. Стою как пень и моргаю. Покраснел, говорят. Хуже, чем перед учительницей. Срам.
— Влип ты, Гринь.
— Влип, Сань.
— Разлюбить надо.
— Пробовал.
— Не вышло?
— Нет. Только хуже.
— Что?
— Видеть ее хочется.
— К старой ведьме, Марфе, сходить надо, Гринь. Она, говорят, отвораживает эту любовь.
— Не знаю, Сань. Прошлый раз, помнишь, у Петуховых бык заболел. Врач лечил — ничего. Марфу позвали — бык подрыгал ногами и сдох.
— Да… Это пожалуй…
— А как хоть, Гринь, ты ее любишь?
— Как и все.
— Ну а как?
— Не знаю.
— Чудно.
— Чудно, Сань. Пойдем погуляем.
— В такой-то морозище!
— Он не очень, Сань, лют. Он только поначалу, а потом привыкнешь — ничего.