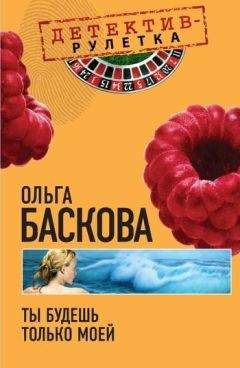Василий Лебедев - Утро Московии
– О родина! Я рад встрече с тобой… – тихо проговорил Ричард Джексон, увидев через окно хозяина дома, английский костюм с большим отложным воротником, белым как снег, длинные, распущенные по плечам волосы, книги на полках, изображение скелета человека на стене и чей-то портрет.
На крыльце предупредительно взлаяла сытая белая собака.
Глава 10
Ввечеру того же дня в кованные железом ворота соковнинских хором застучали сапогами. По стуку дворский определил сильных людей и, не отворяя, побежал сказать хозяину.
Соковнин вышел в простой домашней рубахе до колен да в скуфье, прошел по двору и сам отворил калитку. Увидев двух стрельцов и стольника Пушкарского приказа, он нахмурился и спросил:
– Какого лешья надоти?
– Царем посланы! – так же грубо, со знанием той силы, что имелась в этом посыле, ответил стольник, не слезая с лошади.
– Чего такое? – насторожился Соковнин.
– Без промешки надобно памятцу[161] дати, сколько-де на Устюге Великом людей оружных у воеводы ести, да какого бою то оружье, да…
– Меня нетути! – оборвал его Соковнин.
Однако он понял, что дал промашку, выйдя отворить сам, а теперь делать нечего… Как же нетути, когда вот ты и есть тут? Он понимал, что от него требуется, и еще яснее знал, что дать срочно такую памятцу в столь поздний час нелегко. «Пойди найди их! – думал он о стольниках своего приказа. – Кто спать собрался, схоронится – не найдешь, кто в кабаках сидит, посулы пропивает… Вот незадача!»
– Поторапливайся! – хамил стольник.
«Это потому, что я в опале. Слышал, собака, что мне год головы стричь не велено!» – думал Соковнин, запустив в раздумье руку под подол рубахи и почесывая живот. Сначала он решил было отписать требуемое прямо тут, дома, из головы, как это раньше делалось не раз, но серьезность дела была такой, что в случае ошибки – а она неминуема! – в другой раз не из чего станет брать цифры: голова останется на кленовой плахе.
– Лошадь, собаки! – не своим голосом закричал он на конюха и дворского, стоявших рядом, а когда дворский кинулся со всех ног к конюшне, еще пуще сорвался: – А ты, выкидник, куда? Кафтан!
«Ну что за наказанье Господне на меня? Хоть в ляхи беги!» – сокрушенно думал Соковнин, торопливо, без приступа взбираясь на лошадь. Он видел, как мелькают смешинки в глазах стольника, узревшего его без подушечного дородства на животе, а тут еще и свой воротник замешкался у ворот, да и дворня не соизволила вывалить на улицу, как повелось это при выездах.
– Шевелись! – крикнул он воротнику и уже в растворенных воротах, занеся плетку на лошадь, ударил его. – Разило бы тя в душу, ленивая собака!
Соковнин погнал к своему приказу в надежде, что там еще кто-нибудь есть – частенько заигрываются в карты или в зернь. Стольник погнал лошадь потише, поскольку жалел стрельцов, бежавших обочь, держась за стремена с обеих сторон. Соковнин же гнал во весь опор, на ходу прикидывая: если нет никого в приказе, придется объехать дома стольников, а дома если нет – придется гнать дворню по кабакам, дабы отыскивали нерадивых приказных сидельцев. Тут он вспомнил недобрым словом царя, да и как не вспомнить? Бил ему года полтора назад челом, дабы смилостивился и пожаловал стольников его местом поближе к приказу, в Китай-городе, но он так и не смилостивился, а теперь вот ищи их по всей Москве!
Но сегодня Соковнину повезло впервые за день: все стольники, кроме стольника ямского стола, сидели еще в приказе, даже казначей Филимон. Все они уже наигрались и в карты, и в зернь и теперь подсчитывали взятки за день. У самой двери, на сундуке, подсчитывал свое Филимон: его тоже не обносили.
– Алтын без денги… Два сыра больших сметанных… Курица…
Считая свое, Филимон то и дело поглядывал на стольника судного стола, примечал не без зависти: «Много ему поднесли ныне! Эвон какой осетр-яловец… Гусь – что овца… Икры бадейка берестяная… Копейки в пироге – видел-видел!.. Вот ведь судный-то стол! Что не жить: можно покупать с таких посулов и лошадей одномастных!»
Когда загремели сапоги на рундуке, никто и не подумал, что сам приказный. Когда это бывало, чтобы он по два раза в день заглядывал в приказ? А тут – как снег на голову: влетел в палату, едва успели, да и то не все, прикрыть полами посулы, да так и окостенели от непонятности такой и от страха.
– А! Посулы загребаете великие!
– Да батюшка…
– Сгинь! – рявкнул Соковнин. – Себе посулы – во весь рот, а мне даете заячьи лапки! А ну, скороспешно памятцу царю, сукины дети!
– Какую памятцу надобно? – первым опомнился стольник поместного стола.
– По твоему столу!
– Чего надобно? – кинулся стольник к ящикам со свитками.
– Чего, чего! Шевелись! – Он сам не знал, как короче объяснить требуемое, и злился от недостатка слов.
– Шевелюсь… А чего писати-то?
– Сколько есть на Устюге Великом оружного люда, вот чего!
Найти нужный свиток и сделать выписку оказалось делом нелегким. Соковнин нервничал, раздавал зуботычины, особенно досталось главному виновнику – стольнику поместного стола. Он, избитый, сидел и дрожащими руками писал сам, поскольку меньших сидельцев отправляли домой раньше, с глаз долой. Когда выписка была наконец готова, Соковнин свернул ее, по древнему обыкновению, в трубочку и побежал отдавать посланным из дворца. Однако не добежал до порога, вернулся.
– Осетра-яловца, сыры, икру – всё мне на двор! У, собака! – замахнулся он и ударил по голове написавшего памятку стольника. – Без ножа режете! Эстолько время прокопался! Истинный бог – без ножа!
Он не сдержал чина – выбежал, а не вышел на приказный двор, взобрался на лошадь и, позабыв, что он в одном кафтане поверх домашней рубахи, спросил:
– Я зван во дворец?
Стольник молча взял у него памятцу и ускакал, не сказав ни слова.
«Собака! – чуть не вырвалось у Соковнина вслед, но тут же он поник головой и горько подумал: – Опальный как прокаженный: все его обходят…»
Глава 11
Государь лежал в Постельной палате на широкой кровати, больной и одинокий. За слюдяным окошком, за его тяжелой рамой со свинцовыми переплетами уже давно наступили сумерки, и откуда-то, должно быть из соседней Крестовой палаты, где отворили окно, в Постельную вливалась спасительная прохлада. Вошел постельничий боярин, зажег лампаду, спросил, не надо ли испить водицы, но царь не ответил, прикрыв веки. Постельничий ушел; тотчас из Крестовой послышался шепот: там думали, что он уснул.
Но Михаил не спал. Сквозь прищуренные веки он видел в свете лампады резной крест на спинке дубовой кровати, высокий шатровый балдахин над ней и край персидского ковра на полу. Разводы ковра привлекли его внимание, он придвинулся к краю высокой постели, заправленной толстым тюфяком и огромной периной, свесил голову и представил, что он смотрит с высокой горы, а там, внизу, будто бы разбегаются дорожки и тропинки в большом цветочном поле, полном запахов и гудения пчел. Новый приступ боли в суставах отвлек его от этой забавы. Михаил помрачнел: болезнь с юных лет – неважное дело. Он знал ее происхождение лучше заморского доктора Иоганна Беллоу, что был немедленно привезен и сейчас еще сидел в Передней палате. А болезнь эта – от сегодняшнего купания в Неглинной реке. Утром он с постельничим слишком долго сидели в воде, у ключевого омута. Этому холопу ничего, а он, Михаил, царь Руси, занемог, и никто не может ему помочь.
– Скоро бити станут!
– Скоро… Чу́ден звон! – послышался шепот из Крестовой палаты.
«Только им и забот!» – подумал царь, но и сам не удержался, посмотрел на самозвонное чудо, на эти черные, в серебряной оправе часы, стоящие в ногах, на постельном поставце. Если снова положить голову на высокие подушки, то опять станет виден циферблат с золотыми стрелами и цифрами. Он так и сделал и, увидев часы, будто перенесся в детство: часы, как игрушка, приблизили его к прошлому, вызвали воспоминания… Захотелось послать за матерью, только что ушедшей в свои покои, но он сдержался, однако память вернула его к тому мартовскому дню, когда они с матерью сидели в Ипатьевском монастыре под Костромой и ждали приезда московских послов. Потом, помнилось ему, был звон, и сотни костромичан, выгнанных послами и воеводой или поднятых по зову уставшей от Смутного времени души, подошли к монастырю, и он, шестнадцатилетний Михаил Романов, трясясь и упираясь, вышел с матерью навстречу к ним…
Его просили на царство, а он, охваченный сырым мартовским ветром, сразу озябший, промочивший в сугробе ноги, стал плакать и отказываться от царства в этой земле, где режут царевичей, жгут города и разбойничают на дорогах. Он не помнил, как согласился и согласился ли? Может, это мать сказала за него слово согласия? Но он хорошо помнил другое: как он промочил ноги, и с тех пор, стоит только подольше посидеть в реке, как в суставах начинает ломать кости. А сегодня к этой болезни привязалась еще болезнь брюха. Доктор велел мазать брюхо бальзамом, прописал составной сахар и порошок от головной боли. Иоганн Беллоу несколько раз произносил слово «меланхолия», но что с ней делать – не сказал. А как тут не быть меланхолии, когда уже каждый год то в одном конце Руси, то в другом, то под самой Москвой по два раза на год появляются самозванцы. Мутят народ, требуют помощи у татар, турок, у поляков тех же, у Литвы. Всем не дают покоя всесветный обман и воцарение Гришки-расстриги. Вот теперь новое наваждение – Устюг Великий.