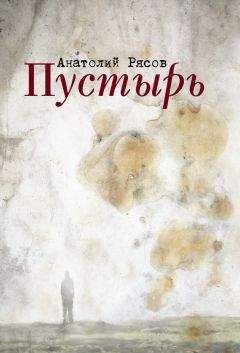Дойвбер Левин - Улица Сапожников
Часовой встревожился. В Полянске так скоро не ждали красных. Он повернулся к западу. Посмотрел и совсем приуныл. С запада по шляху подходили два отряда. Один сборный какой-то: бойцы — кто в тулупе, кто в шипели, кто в ватном пальто. Второй отряд — матросы. У матросов были пулеметы. А по реке плыл пароход. На палубе видны были люди, вооруженные винтовками и ручными гранатами. Пароход плыл и гудел, и дым валил из труб.
Полянск окружили. Оставалась одна дорога — к вокзалу. Но на вокзале засели железнодорожники, а с ними шутки плохи — часовой знал это по опыту.
— «Дрянь дело! — думал он. — Что-то Беляшин скажет?»
Полковник Беляшин — комендант города — лучше кого другого знал, что дело дрянь. Восстание не удалось. Это ему стало ясно уже на третий день. Восстание провалилось. Но выхода нет — надо биться.
Полянск до революции был богатым торговым городом. Фабрик, заводов в Полянске не было. Единственный завод — четыреста рабочих — находился где-то за городом. А вот купцов в Полянске было много. Ремесленников — того больше. «Низ» был ремесленный, «верх» — торговый. Большевиков — рабочие подгородного завода, часть железнодорожников и старые подпольщики, застрявшие в Полянске, — была горсточка. В октябрьские дни им пришлось выдержать упорный бой с эсерами и с анархистами. Одним бы им не справиться. Но на подмогу пришел броневой отряд с фронта. Эсеров и анархистов загнали в подполье, установили советскую власть и на этом успокоились.
Рано успокоились. Эсеры и анархисты, постепенно, незаметно для себя ставшие чистыми монархистами, сидели в подпольи и ждали. Ждали долго и упорно. Наконец им надоело ждать. Да и правда — чего ждать-то? Советы — это они знали твердо — опоры в Полянске не имеют. Войск в городе нет. Войска на фронте. Железнодорожники — недовольны, ворчат. Вокруг города в лесах — «зеленые». Мужик, обиженный разверсткой, смотрит волком, пряча за спиной обрез. Кто же остался? Рабочие подгородного завода. Местные чекисты. Да их раз-два — и обчелся. Значит, ясно. Значит, действуй. А там, глядишь, присоединятся «зеленые». Подымутся крестьяне. От соломинки загорится пожар. Восстание охватит губернию, край, Россию.
Восстали. Город захватить удалось без труда. Красные не ждали, не готовились. Белые ликовали. Дамы с балконов бросали цветы. Бородатые купцы пели «Боже, царя храни». Над зданием совета взвился трехцветный флаг. Сейчас только бы поднять губернию, а там — само пойдет. «Ухнем! Дубинушка сама пойдет».
Ухнули. А уже на третий день стало ясно: дубинушка не идет. Уперлась дубинушка. И ухнули, выходит, зря. На свою голову ухнули.
Начать с того, что город захватить удалось не весь. Вокзал красные отстояли. Мало того, оказалось — у большевиков и в самом-то городе опора есть. И опора крепкая. Ремесленный «низ» — не весь, правда, но большая его часть — шел с большевиками. Вместе с большевиками к вокзалу отступили сотни подмастерьев с «низа». Железнодорожники — те тоже: то, по верным сведениям, недовольны советами, ворчат, ругаются, то, когда белые подошли к вокзалу, такой открыли огонь, что господи спаси и помилуй.
Послали гонцов к «зеленым». Поскакали гонцы, отыскали в лесах «зеленые» отряды. Доложили — так и так. Свобода. Россия. Трехцветное знамя. Учредительное собрание. Словом — присоединяйтесь. «Зеленые» слушают, но вяло как-то, скучают. Командиры — бывшие офицеры — те всей душой: ура! А рядовые бойцы — те скучают. Оно конечно: «Большевиков-коммунистов — их резать надо. Факт». Об этом что говорить. А вот насчет России, насчет там трехцветного или учредилки — это им плевать. Интересу нет. Им бы главное — воля да водка. А для этого и в Полянск не надо. Этого в лесу — сколько хошь. А в лесу-то оно и спокойней к тому же. И потом — насчет земли-то как же? Ежели назад помещикам, то несогласны. «Врешь! Землю — шиш. Земля — наша!» Так и вернулись гонцы ни с чем. Не все, — один и вовсе не вернулся. Зарубили его «зеленые».
И уж совсем никуда повернулось дело в деревне. Богатые мужики, те самые, которых «обижали» разверстками, те слушали и согласно кивали: добре. Но в город не шли. Пережидали. Бедняки — то-то шли. Да не туда, куда надо, — в красные отряды.
Не загорелся пожар. Соломинка тлела и догорала.
Не удалось восстание. Оставалось одно — держаться, пока можно. А там видно будет. Пока большевики соберутся, пока что — глядишь, откуда пришла подмога, или фронт у большевиков рухнул.
По фронт не рухнул. А собрались большевики скоро. Уже на четвертый день к Полянску начали подступать отряды. Пришли партизаны. Пришли матросы. Матросов привел Герш. Он их встретил в селе Спасском. Они еще не знали о восстании. Шли на фронт и заночевали в Спасском, случайно. Герш их повернул и привел к Полянску.
Отряды прибывали со всех сторон. Полянск окружили. Однако пока не наступали. Рано. Отряды вооружены были плохо, разнобойно. А в Полянске у белых была значительная сила. Одних офицеров — человек шестьсот. А эти драться будут на смерть. И потом — арсенал, пушки.
Красные ждали броневого поезда. С фронта сняли и направили в Полянск бронепоезд. Он мог быть этой ночью, мог — завтра поутру, мог — к вечеру. Ждали.
Так они стояли друг против друга, белые в городе, красные за городом. И ждали. Белые — чуда. Красные — бронепоезд. А пока они ждали, ясный осенний день потускнел, потух, затуманился. Солнце пошло к закату. Наступил вечер.
Ирмэ и Неах лежали на крутом холме и смотрели вниз. На город.
Город был им хорошо виден. Река. На реке — мост. За рекой — древние крепостные стены. Бойницы, башни. Главная улица — Благовещенская — лезет вверх, в гору. На горе — собор. Над собором — небо, багровое, закатное. Вечер.
— Так, — сказал Ирмэ. — Значит, и на Волге был.
— Был.
— А уж мы-то думали, Неах, убили тебя.
— Меня не убьешь, — сказал Неах. — Меня эти гады столько, брат, дубасили, что шкура сделалась как дубленая. Пулей не прошибешь.
Ирмэ посмотрел. Да, такого убить не просто. Руку занозишь. Высокий, худой, а сильный. Большая сила. Не поверишь, что Неах. В кожанке. Браунинг на боку. Братан. Матрос.
— У матросов давно?
— Порядком.
— В Кронштадте, что ли?
— Нет, на Черном, — сказал Неах. — Я там в Красной гвардии был.
— Командир у вас чудной, — сказал Ирмэ, — вроде махновца.
— Это Башлаенко-то? — сказал Неах. — Он украинец. Из Полтавы. Ух, боец! Что шумит, ругается — плюнь. Характер такой. И сам не рад, а боец на ять.
Помолчали.
— Как мать? — тихо сказал Неах. — Жива?
— Жива. Ты чего ей не писал-то?
— Так. Не выходило оно как-то. Да и мотало меня — из Тамбова в Ростов, из Ростова в Елец. Где там писать. Как она?
— Плоха, — сказал Ирмэ. — Седая. Старуха.
— Как-нибудь заеду в Ряды, — сказал Неах. — Поглядеть охота, что там, как. Симон где? На фронте?
— Дома, — проворчал Ирмэ. — Дезертир. Собака. Из-за него и в парикмахерскую к Зелику не ходишь. Встретишь его — плюнешь. Гад.
Неах вдруг засмеялся.
— Ты чего? — удивился Ирмэ.
— Так. Глупости. Ты сказал «парикмахерская». Я ведь сам-то парикмахером был.
— Где?
— В Ельце, — сказал Неах. — Город в Орловской, слыхал? «Елец, всем ворам отец». Там и было.
Он закурил.
— Раз как-то взялся сдуру за целкаш — всю деревню побрить, а в деревне домов сто.
— И побрил?
— Побрил. Правда, потом на базаре я сразу узнавал своих: во всю щеку порез или борода кривая, значит — мой.
— Ох, могли измордасить, — сказал Ирмэ.
— Могли, — согласился Неах. — Счастье, что брил-то почти задарма. Мужикам совестно было бить. И потом уж я, знаешь, привык. Били-то меня много. Одни раз под Самарой так лупили — думал, живым не встать. И — главное — зря. Ни про что. Да, время было. — Неах помолчал. — Я тебя, Ирмэ, что спросить-то хотел, — сказал он, помолчав, — как теперь в Рядах? Что эти — Рашалл, Козаков?
— Нету, брат ты мой, Рашалла. — Ирмэ вздохнул. — Смотался Рашалл. Дом-то его реквизнули. Исполком там помещается. Самого было посадили. Посадили, да выпустили. Он в ту же ночь и ходу.
— Зря, — сказал Неах.
— Что говорить, — сказал Ирмэ. — Сдурили. А Семена-то помнишь? Кучера?
— Ну?
— В отряде. Я его первый раз увидал — не поверил. «Ты, говорю, Семен, это как? А барин?» — «Туда его, говорит, барина! С меня, говорит, будет. Отчубучил».
— Помнишь, как он нас тогда на складе? — сказал Неах. — Теперь-то я понимаю: ему сказали: «дуй!» — он дул. А тогда я б его зарезал, ей-богу.
— Ты тогда в Америку метил, — сказал Ирмэ. — К индейцам, что ли. Воевать. Помнишь?
— Как же, — Неах улыбнулся. — А воевать-то, оказывается, и не с кем было б. Недавно в книге прочитал. Индейцев-то давно со свету сжили. А кто остался, так тот в шляпе ходит и сторожем служит на маслобойне. Воевать-то, как видишь, приходится. Да не в Америке — дома.