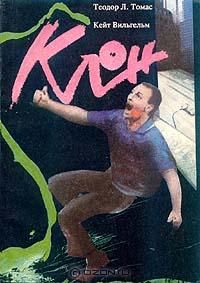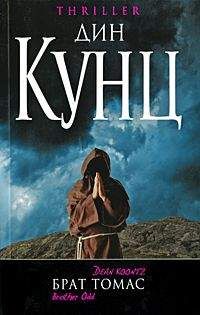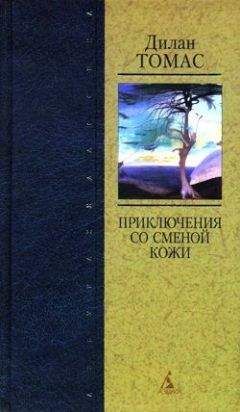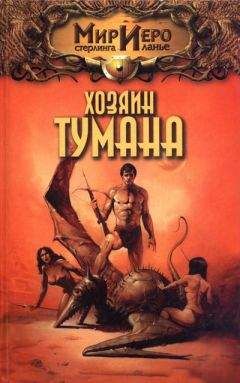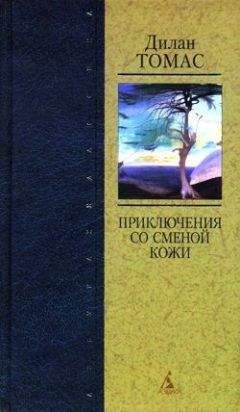Петер Гестел - Зима, когда я вырос
Я прочитал письмо два раза. Вот оно.
Дорогой Томас,
ты, наверное, думаешь: как долго папа мне ничего не писал! Но это уже мое второе письмо. Я сам отнес его на понту. Первое письмо я бросил в ящик. А этого делать нельзя, запомни. Если ты бросишь письмо в ящик, то кто-то другой бросит его потом в другой ящик, и так далее, пока твое письмо не окажется в ящике с надписью «Совершенно секретно». И когда этот ящик с совершенными секретами наполняется, его ставят в большой шкаф и запирают на большой замок. И открыть его может только хромой дед с тридцатью связками ключей. А он этого никогда не сделает, потому что участвовал в двух мировых войнах и считает, что все секреты должны оставаться секретами.
Ты скучаешь без меня? Стоит мне увидеть на улице худенького мальчугана, одного, без взрослых, который свистит на ходу и идет большими шагами, — я сразу вспоминаю о тебе. Знаешь, когда видишь кого-то и сразу вспоминаешь совсем о другом человеке, это значит, что ты по этому человеку скучаешь, так всегда бывает. А ты обо мне тоже вспоминаешь, когда видишь на улице скучного дядьку, который бредет по улице, бормоча себе под нос? Надеюсь, что да. Я скучный отец, сам знаю. Но скучные отцы тоже имеют право на существование. Мы с тобой никогда не играли в снежки. Во всяком случае, не помню такого случая, а ты?
По утрам, попивая горячий чай, который сделал мне сосед по квартире, я часто смотрю в окно. Там я вижу безрадостную улицу, и по этой безрадостной улице идут безрадостные немцы со своими веселыми детьми. Дети кричат, бегают по улице туда-сюда. Они плоховато одеты и бегают, чтобы согреться. «Sei ruhig!» («Успокойся!») — кричат папаши. Дети смеются над ними, а я пугаюсь, когда это слышу, потому что мне их всех жалко. И я думаю: Томас идет сейчас вдоль Амстела. И тогда скучаю не только по Амстелу, но и по тебе. Не унывай, малыш, я вернусь домой, но сначала мне надо прочитать сто тысяч писем, и во всех написано одно и то же: что у дедушки и бабушки разрушен дом, что Гретхен уже родила ребенка от погибшего русского солдата, а теперь снова беременна и ждет Томми, о том, что кончилась kartoffeln, и что за эту проклятую войну («der verdammte Krieg») они истоптали все башмаки.
Ты стараешься радовать тетю Фи? Вообще-то ты, наверное, не знаешь, что это значит. Это очень просто: не кричать, не ругаться, убирать за собой. Ей я тоже напишу. Слышишь, Фи, не плачь, когда ты будешь это читать, прибереги слезы для похода в кино!
И еще я часто думаю про маму, Томас, так часто, что правильнее было бы сказать: изредка я думаю о чем-то другом. Когда-нибудь я тебе об этом расскажу, но сначала ты должен сдать экзамен по плаванию. Я пишу глупости, ты, наверное, думаешь: он все шутит, чтобы только не плакать. Клоун со слезинкой на щеке, такая вот картина, и она тебе нравится, да ведь? Мне она раньше тоже нравилась, а теперь я предпочитаю картины, на которых нарисована тихая девушка у окна, или женщина в утреннем халате, или пейзаж: луг под дождем, но дождя не видно.
Я люблю тихие комнаты.
Но я не люблю комнаты в нашем доме на канале Лейнбан. Там слишком тихо без ваших с мамой ссор: ты, бывало, злился еще больше, чем она, и если был в хорошей форме, то кричал тоже намного громче нее. Иногда, поднимаясь по лестнице, я думаю: сейчас я скажу Томасу что-нибудь такое, чтобы он разозлился. Но не могу придумать ничего такого. И тогда говорю: ты хорошо вытер ноги? Ты смотришь на меня так же сердито, как смотрела мама, когда я ей говорил, что она похожа на ту или иную киноактрису, — она хотела быть похожей только на саму себя, мне от нее здорово доставалось. Да, Томас, в последнее время нам с тобой слишком редко дают по башке. Я устал от этого чужого города. Мне часто хочется уехать из Амстердама, но, наверное, только для того, чтобы снова вернуться в Амстердам. Скоро мы с тобой увидимся, обещаю тебе!
Как дела в школе, ты стараешься?
Если тебе холодно, попроси у тети Фи дополнительный свитер, у нее есть. Тьфу ты пропасть, у меня кончились сигареты, а ты же знаешь, что без сигареты я не могу писать. Ну и ладно. Если бы у меня была еще пачка сигарет, я написал бы письмо длиной в двадцать страниц, а кому это надо? Причитающиеся мне сигареты я всегда выкуриваю сам, а жаль: ведь любой немец готов отдать за сигареты всего себя с потрохами, даже свою овчарку, но от меня он сигарет не дождется — я не люблю собак, особенно немецких овчарок, потому что они, да будет тебе известно, кусаются.
Пока, милый Томас, целую,
папа.Я сложил письмо и сказал тете Фи:
— У папы все хорошо.
— Прочитай его или дай мне прочитать, Томми!
Я снова расправил письмо и сказал:
— Я не могу читать все, потому что он пишет о тебе всякую ерунду.
Тетя Фи ничего не ответила. Молодец. Мама бы тоже не попалась на этот крючок.
Я прочитал письмо вслух. Я не стал читать с выражением, это же не в школе.
Когда я дочитал до конца, тетя Фи встала, взяла палку и с прямой спиной пошла к двери.
— Сейчас сделаю для тебя бутерброды, — сказала она.
— Тетя Фи, — сказал я, — как здорово, что ты уже можешь ходить.
Она остановилась, повернулась ко мне и посмотрела на меня с гордостью.
— Да, малыш, — сказала она, — я могу уже все. Хочешь со мной потанцевать?
Я срочно кивнул, потому что нельзя мотать головой, когда чего-то очень не хочется.
На кухне тетя Фи сказала:
— Я чуть не расплакалась от этого письма. Он убит горем, ты этого еще не понимаешь, ты еще слишком мал; для нас, взрослых, жизнь далеко не мед.
— Для нас, детей, тоже.
— Тебе сливового варенья или масла с сахаром?
— Сливового варенья, — сказал я.
Делая мне бутерброды, тетя Фи все время шмыгала носом.
Ты уж или плачь, или мажь варенье, думал я, одно из двух.
Она посмотрела на меня глазами, полными слез.
— Твоему папе сейчас очень одиноко, — сказала она.
Я ничего не ответил. После того как я прочитал письмо вслух, оно перестало быть моим. Я подумал: сейчас я прочитаю его несколько раз один, тогда оно снова станет моим.
После большой перемены парта Звана была пуста.
О господи, подумал я, сейчас его накажут за опоздание.
Но Зван вообще не пришел.
Вдруг он попал под машину?
Пока учитель занудствовал про разницу между подлежащим и прямым дополнением, я чуть не сошел с ума от волнения. Каждые две минуты оборачивался посмотреть на пустую парту, но это не помогало. И еще я долго-долго смотрел на дверь. Сейчас она откроется, думал я, сейчас наш копуша появится на пороге. Но дверь не открывалась.
Я поднял руку.
— Учитель, у меня болит живот, я больше не могу терпеть.
— Так и быть, Томас Врей, можешь выйти, — сказал учитель. — Ты такой бледный.
В коридоре я взял пальто с вешалки, на ходу надел его и почти скатился вниз по лестнице. Я пробежал через подворотню, через Хохе Слёйс, помчался по площади Фредерика. Ни разу не упал. Так, без единой ссадины на коленях, я добежал до дома на Ветерингсханс.
На лице у Бет было написано глубокое разочарование, когда она увидела меня.
— Ты не доктор, — сказал она. — Как жаль.
В комнате у тети Йос слышались женские голоса.
— Что-то со Званом? — спросил я.
— А почему ты спрашиваешь?
— Его не было в школе.
Она посмотрела мне в глаза.
— Я вижу, ты здорово разволновался? Зван сидит у мамы, к нам приехали бабушка и тетя Тине из Харлема, мама не в себе.
— Почему?
— Пошли.
Я пошел следом за Бет в комнату к тете Йос.
Тетя Йос стояла у камина и смотрела на горящие угли. Увидев меня, она показала на огонь и прижала указательный палец к губам — мол, не шуми.
На диване, где обычно спала тетя Йос, сидела пожилая дама, одетая в темное. Глаза у нее были закрыты, и я подумал, что она спит.
Пожилая дама сказала:
— Я ничего не понимаю.
Значит, не спит.
Рядом с диваном стояла полная женщина. На ней была дурацкая шляпка с широкими опущенными полями и пальто. Казалось, она стояла и ждала трамвая, прямо посреди комнаты.
Бет подошла к дивану.
— Подойди поздоровайся с бабушкой, — сказала она мне, — и с тетей Тине.
Я подошел и поздоровался с ними за руку.
Тете Йос понравилось, что я пожал руку ее маме и ее сестре, — она мне улыбнулась.
Зван стоял у окна.
— Знаешь, — сказал я Звану, — учитель сердится, завтра он тебя накажет. И меня тоже, потому что я тоже сбежал с уроков.
Зван прижал палец к губам — точно так же, как тетя Йос.
Бабушка Бет посмотрела на тетю Йос.
— Я же твоя мать, Йозефина! — сказала она.
— Нет-нет, — ответила тетя Йос, — отчего вдруг?
Я подошел к тете Йос и спросил:
— Почему вы не в себе?
Тетя Йос посмотрела на меня.
— Нет-нет, — сказала она, — кто ты такой?
Полная тетушка Бет спросила:
— Ты одноклассник Пима?