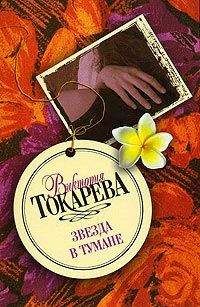Георгий Шолохов-Синявский - Казачья бурса
Я объяснил:
— Я знал, Иван Исаевич. Спросите меня, пожалуйста. Честное слово, знал. Это Александра Николаевна…
Иван Исаевич покраснел, покачал головой и, подумав, исправил отметку на три.
Колючим и грубым был преподавательский словарь Александры Николаевны. Она давала ученикам насмешливые и уродливые прозвища, намеренно искажая имена и фамилии. Узнав, очевидно, о занятиях моего отца, она называла меня Медовым, толстого увальня, сына хуторского мясника, — Саловым, Ваню Рогова — Жуком-долгоносиком.
Подобные клички так и сыпались из ее уст и очень раздражали учеников. Они жаловались Софье Степановне:
— Наша учительша дразнится. Не хотим у нее учиться.
Когда Александра Николаевна заходила в класс, сразу же вместе с ароматом духов в атмосферу класса как будто врывалась холодная струя всеобщего страха и отупения. Лучшие и самые бесстрашные ученики робели, терялись, отвечали уроки с запинками, мололи чепуху. И никто не решался противоречить ей, дать отпор ее грубым выходкам.
Ставя в журнал единицы и двойки, она, казалось, испытывала наслаждение.
Но однажды все-таки нашелся смельчак, который надерзил ей, выказал неповиновение. Это был Сема Кривошеин, сын богатого, причем очень чванливого казака. Не случайно осмелился он на эту дерзость: отец его был в родстве со станичным атаманом и сам когда-то в хуторе держал атаманскую насеку.
— Кривошеин! — обратилась к нему на уроке истории Александра Николаевна. — Отвечай: кто такие были Гедимин и Витовт?
Кривошеин ответил не без присущей ему самоуверенности:
— Известно, кто такие — литовские князья.
— Чем отличалось их княжество?
— Известно…
Александра Николаевна насмешливо перебила:
— Мне-то известно, а вот тебе — известно ли… И что это за манера отвечать. Стань как следует и гляди прямо мне в глаза. Убери с парты учебник.
— У меня учебника нету… — Черные и узкие, как миндалины, чуть сведенные к переносице дерзкие глаза Семы засветились упрямством. — Если вы не верите, я не стану отвечать…
— Это еще что такое, Кривошеин? Отвечай: чем было знаменательно великое княжение Гедимина?
— Не буду отвечать.
— Почему? Ты не приготовил урока?
— Нет. Я знаю его лучше вас, но отвечать не буду.
Широкое с вздернутой кверху тонкой губой лицо Александры Николаевны побагровело, лорнет в смуглых унизанных перстнями пальцах завертелся игрушечной мельничкой.
— Что такое? Как ты смеешь, болван?! Выйди вон! За доску!
— Не выйду.
На скулах Кривошеина перекатывались бледные желваки.
— Ты не хочешь отвечать о литовских великих князьях?
— Не хочу. Вы обращаетесь со мной как с хамом. Я — казак…
Ответ был в полном соответствии с амбицией Семы Кривошеина. Александра Николаевна фыркнула:
— Мне все равно, кто ты — казак или кацап. Я тебя заставлю выйти и отвечать.
— Не заставите, — огрызнулся Кривошеин.
— Посмотрим.
Класс затих, притаился. Александра Николаевна подошла к упрямому ученику, хотела взять его за ухо, но Кривошеин с силой отбросил ее руку и, как видно, сделал ей больно: она вскрикнула. Кривошеин был большим, сильным парнем. Глаза его бешено сверкали.
Александра Николаевна истерически закричала:
— Негодяй! Ты будешь исключен из школы.
Лицо ее стало землисто-серым. Мне даже показалось — изумруды в ее ушах стали еще более зелеными, а в глазах блеснули слезы.
— Ты будешь исключен! — задыхаясь, повторила Александра Николаевна и вышла из класса, хлопнув дверью.
— Посмотрим! — крикнул ей вслед Кривошеин.
— Ну, будет тебе теперь, Семка! — загомонили его Товарищи.
— Ничего не будет, — ответил он с той же загадочной уверенностью. — Я — казак, а она — литовка. Приехала сюда командовать.
Все были ошеломлены: впервые мы услышали о том, что Александра Николаевна была литовка. И какое это имело значение?
Не прошло и трех минут, как в класс вошел Иван Исаевич. Он не набросился на Кривошеина с руганью и кулаками, как это сделал бы Щербаков, а лишь строго оглядел весь класс и только после этого тихо и спокойно сказал Кривошеину:
— Кривошеин, возьми сумку и уходи домой.
Сема только пожал плечами, неторопливо вынул из-под парты ранец, вложил в него тетради и книги и, не вымолвив ни слова, не оглянувшись, ушел.
Весь остальной урок прошел очень тихо. Ученики отвечали так, будто боялись разбудить кого-то спящего. На другой день все думали, что Кривошеина исключат и в класс он больше не придет, но, к всеобщему удивлению, он явился как ни в чем не бывало, сел за свою парту, разложил учебники.
В журнале против его фамилии не появилось сниженной отметки по поведению. Александра Николаевна долго не ходила в наш класс, а когда ей пришлось все-таки вести у нас урок, она больше ни о чем не спрашивала Кривошейке, обходила его взглядом, как будто его совсем не существовало. И Сема, видимо, бывал этим весьма доволен: он сидел за партой развалясь, ничего не делал и даже не слушал, а читал какие-то свои книги. А книги эти были всегда одинаковые: о подвигах казаков в войнах, о боевых походах донских атаманов…
На перемене только и разговору было о том, что придирки Александры Николаевны на уроке по истории не случайны: эпоха великих литовских князей и их завоевания была любимой ее темой. Жалобы Александры Николаевны на развязные ответы Кривошеина не нашли сочувствия ни у бывшего атамана Кривошеина, ни у местного попечителя, ни у начальства из учебного округа. Великодержавным российский шовинизм и казачья амбиция оказались сильнее и доказательнее жалоб на грубое поведение ученика!
… Однажды в середине марта, на рассвете, мы проснулись от могучих ударов в стены нашей хибары. Словно какой-то взбесившийся гигант пытался сдвинуть ее с места. Кухонька трещала, шаталась, стонала, а гигант злобно завывал за окном, швырялся по двору сорванным с крыш железом, кирпичами повергнутых наземь печных труб.
— Мать, а ведь это ветер так разгулялся, — проговорил отец и, быстро одевшись, хотел выйти во двор, но не успел отворить дверь, как ее вырвало из рук, а отца отшвырнуло назад в кухню.
Порыв урагана вломился в нашу каморку, погасил жирник, загремел стоявшими в деревянной пристройке — сенях ведрами, покатил их куда-то…
— Свят, свят, свят, — забормотала мать.
Так начался чудовищный ураган, о котором много писалось тогда в газетах. Накануне голубели теплые весенние дни, и отец выставил из погреба все оставшиеся пятнадцать ульев. Они стояли в два скромных рядка под камышовой изгородью.
Когда отец выбрался из хибары и, сбитый несколько раз с ног, все же дополз на четвереньках до пасеки, то его взору предстала печальная картина: изгородь была снесена, половина ульев, стоявших как раз на пути бури, опрокинута, сорванные с них крышки унесло неизвестно куда, рамки вывалились, пчел разметало. Лишь маленькие горсточки их там, где уцелела матка, сгрудились в уголках опрокинутых ульев, остальные погибли…
Под неистовый рев урагана отец сообщил матери о несчастье. Мы кое-как вышли из хибары. Меня сразу сбили с ног, больно ушибло, но я вцепился по-кошачьи за дерево. Мать, держась за отца, с трудом добрела до уцелевших ульев. Но чем можно было спасти их? Отец и я пытались разобрать каменную стену и навалить на ульи камни. Мы бились часа два, пока смогли кое-как привязать ульи к торчавшим на месте изгороди глубоко врытым в землю» кольям. И еще что-то делали мы в отчаянном усилии спасти хотя бы несколько пчелиных семей. Нас поминутно сбивало с ног, било камнями, сорванными откуда-то досками…
Ураган свирепствовал. Он топил суда на Азовском морс, разбивал о прибрежные камни утлые рыбацкие байды, где-то даже опрокинул поезд с пассажирами. Азовское море вышло из берегов и кипело под самым хутором, желто-бурое, дикое, страшное. Тучи, лохматые, хвостатые, мчались очень низко, чуть не цепляясь за кровли хат. По хутору бродили пугающие слухи: кто-то убит в своем же дворе сорванными воротами, чья-то рыбацкая ватага утонула целиком, не добравшись до берега…
И все-таки главные удары урагана, как потом выяснилось, пришлись не на наш хутор: ось его проходила где-то южнее. Иначе не сдобровать бы нашей хибарке и большинству хлипких глинобитных построек хутора.
Схватив сумку, я все-таки пошел в школу, придерживаясь за камышовые изгороди, падая и вновь поднимаясь. Шел не менее часа, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Я опоздал на урок, а в классах собралось менее трети учеников. Иван Исаевич тут же распустил их по домам.
Я вернулся домой. Отец и мать сидели притихшие, измученные неравной борьбой с бурей. Катастрофа, постигшая пасеку, на какое-то время примирила их, заставила в поисках взаимной защиты приклонить друг к другу головы.
Так закончилась для нашей семьи эта трудная зима…