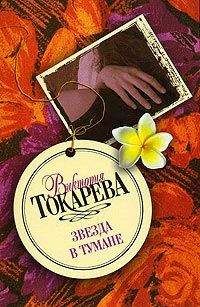Георгий Шолохов-Синявский - Казачья бурса
Трудная зима
Осень, когда я впервые переступил порог четвертого класса, предстает в моей памяти особенно безотрадной. И это, несмотря на кратковременную радость, охватившую меня в тот день, когда я узнал, что смогу продолжать учиться, когда держал в руках объемистую пачку новеньких учебников с манящими названиями — «География», «История», «Геометрия», «Естествознание», «Хрестоматия»… Эти названия наполняли сердце гордостью. Но очень скоро праздничное настроение уступило будничному, тяготы жизни, одолевавшие нашу семью, ощутимо легли на мои плечи.
Я уже не был так беспечен, как прежде, и видел, как на моих глазах менялся горделиво-вольный облик отца, как он дряхлел и сутулился. Как будто невидимая сила все упорнее прижимала его к земле. Он стал молчаливым и в те дни, когда бывал дома, подолгу сиживал у печки, о чем-то сосредоточенно думал…
Стычки его с матерью участились. Отец отвечал на ее жалобы и укоры без прежней выдержки и снисхождения. Ссоры эти очень угнетали меня, и я часто убегал из дому, позабыв об уроках. Долголетний союз отца и матери разлаживался, утрачивал свой согласный смысл.
Бедность окончательно сразила мать, характер ее портился, становился непереносимым. Но сердце мое больно сжималось от жалости к ней, когда я видел ее, надломленную, преждевременно состарившуюся, ходившую летом босиком, а в холодную осеннюю и зимнюю пору в старых, рваных калошах или изношенных башмаках.
И я впервые задумался, умеет ли отец вести семейный корабль. Но когда он приносил после двухнедельной работы у Маркиана Бондарева или у какого-нибудь армянина скудный заработок — оклунок муки, четвертную бутыль подсолнечного масла или трехрублевую бумажку, в нашей кухоньке словно становилось светлее. Маленькие сестры начинали резвиться и прыгать. Мать переставала ворчать и принималась за стряпню. Отец, измученный, усталый, с заметно посеревшей бородкой, усаживался на свое любимое место у печки и глубоко задумывался. О чем он думал? Какие мысли теснились в его голове? Воспаленные от пыли глаза его были устремлены в одну точку. Казалось, он решал про себя непереносимо трудную задачу и никак не мог решить ее.
Я вспоминал, как отец носил меня на руках в сад, как мы ходили с ним на заячьи засады, как ловили перепелов и охотились на гусей, и мне казалось: был он тогда другим человеком — мужественным, сильным, красивым. Теперь я не узнавал его и жалел не меньше, чем мать.
В те годы бедность вызывала сочувствие не у многих, ее боялись, ее презирали. Помню и на меня она действовала отталкивающе. В школе товарищи из более обеспеченных семей посматривали на мою латаную и перелатанную одежду с нескрываемым пренебрежением. И вообще вид у меня был самый неприглядный и захудалый: лицо от каждодневного недоедания пожелтело и вытянулось, шея стала тонкой. А ноги, обутые в дырявые ботинки, торчали из коротких штанов, как тонкие ходули.
Харчевая сумка моя все чаще оставалась пустой, и я уже приспосабливался к тому, чтобы самому добывать в классе, за подсказки на уроках, какую-либо еду.
Двойственным было отношение ко мне нового заведующего. Он посадил меня рядом с лучшими учениками — сыновьями лавочника из соседнего хутора Мишей и Федей Лапенко. Но им он оказывал явное предпочтение, не скупился на хорошие отметки. Иногда я ловил на себе его взгляд, пристальный, как будто изучающий и вместе с тем сожалеюще-брезгливый, словно от меня исходил неприятный запах нашей бедности.
Иван Исаевич слыл просвещенным учителем, чуждым грубых замашек своего предшественника — Степана Ивановича. Он никогда не бил учеников, хотя и посылал стоять за доску в продолжение долгих уроков, а иногда даже выгонял за шалости в коридор. Единственный раз я видел, когда он за ухо вывел из класса очень ленивого и самого отчаянного баловня. После он долго вытирал пальцы надушенным платком и брезгливо кривил губы.
Мне нравилось, когда Иван Исаевич, откинув назад полы тужурки и заложив розовые ладони за спину, мерно вышагивал по классу и неторопливо объяснял урок. Иногда он останавливался и, пощипывая под длинным крупным носом своим коротко остриженные, желто-белесые усы, выслушивал ответы, морщился, когда ученик ошибался и путал.
Иван Исаевич лишь заметнее розовел в лице и спокойно спрашивал:
— Ты скажи: будешь учить уроки или хочешь быть отчисленным из школы? Имей в виду — тратить на тебя время мне некогда. Вместо тебя всегда найдется более достойный ученик. Садись. Завтра придешь с отцом.
Ученик садился, испуганный и пристыженный.
Особенно интересными были уроки Ивана Исаевича по русскому языку и литературе. Он с вдохновением читал нам отрывки из сочинений Льва Толстого, Тургенева, стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, рассказы Чехова. Но ни разу не назвал Горького. Читал он выразительно, останавливаясь на особенно художественных местах, повторяя их по два раза, и спрашивал:
— Вы слышите? Слышите, какая тут красота?! Какая музыка?! Какие слова?! И слова, как видите, бывают разные — здесь они звенят, как золото, и сверкают, как алмазы.
Он заставлял нас писать пересказы, изложенные своим языком, и задавал на дом сочинения.
Когда Иван Исаевич прочитал мое первое сочинение «Гроза в деревне», он удивленно взглянул на меня, спросил:
— А ты, братец, скажи, кто написал тебе? Отец, мать? Или какой-нибудь дядя?
Я чуть не заплакал от возмущения, ответил:
— Отец и мать у меня малограмотные. Я сам писал.
Афоня Шилкин, целиком содравший сочинение из «Обломова», как видно из зависти, кинул из-за парты:
— Иван Исаевич, ему мать написала. Она сама мне говорила.
— Ты лжешь! — не помня себя от ярости, закричал я и, не удержавшись, кинулся к нему с кулаками.
— Ну хорошо, хорошо, — улыбаясь, остановил меня Иван Исаевич и впервые за все время положил на мою голову руку так же, как делала это Софья Степановна. — Я тебе верю.
Он тут же, при всем классе, поставил мне четверку.
После этого случая Иван Исаевич чаще прежнего требовал, чтобы я первый пересказывал прочитанный им текст. Я делал это со всем старанием, но обнаружил: письменные переложения и сочинения получались у меня гораздо лучше, чем устные.
Математика же мне определенно не давалась. Я просиживал долгими зимними ночами над задачами «на смешение» и над решением геометрических задач, грыз до крови ногти, плакал и все-таки уходил в школу, так и не решив одной или двух. Тут выручал меня сын торговца Миша Лапенко: уж он-то знал, как смешивать товары и определять им цену.
С приходом в училище Ивана Исаевича изменился и порядок в школе: установились твердые отметки по поведению по четвертям, чего не было при Степане Ивановиче — такие отметки заменялись при нем крепкими затрещинами, они и определяли меру воздействия. В классах стало намного опрятнее и чище. Появились наглядные пособия и приборы. И несмотря на то, что побои прекратились, дисциплина учеников укрепилась, ослабело и религиозно-законоучительское рвение батюшек. Но мы по-прежнему зубрили и катехизис, и богослужение, и историю церкви, все так же переводили мудреный церковнославянский текст евангелия на русский и наоборот, делая что-то вроде гимназической экстемпоралии. Но это уже не так тяготило нас. Ведь существовали теперь и другие, полезные, предметы…
Преподавание литературы оставило во мне на всю жизнь чувство благодарности к Ивану Исаевичу.
Совсем иное впечатление осталось у меня от преподавания Александры Николаевны. Просто удивительно, как уживались в ней светскость манер и чопорность классной гимназической дамы с грубостью базарной торговки.
Являлась она в класс элегантно одетой: волосы ее были всегда завиты самым искусным образом, в ушах посверкивали крупные изумруды.
На груди Александры Николаевны висел лорнет, видимо оставшийся от того времени, когда она преподавала в гимназических классах. Это двуглазое противное приспособление особенно пугало учеников: нам казалось, что, прикладывая его к своим выпуклым, как у громадной зеленой лягушки, глазам, она просматривала нас насквозь и сразу узнавала, кто не выучил урока.
Учеников бросало в дрожь при одном звуке ее голоса. Я готовил уроки прилежно, но почему-то отвечал Александре Николаевне намного хуже, чем Ивану Исаевичу, — путался, сбивался. Она пронзительно смотрела на меня в лорнет и язвительно цедила сквозь зубы:
— А говорят, ты — один из лучших учеников. Не похоже. Потрудись, сударь, остаться после занятий и повторить. А пока придется поставить тебе двойку.
Я чуть не закричал от обиды, но ничего не мог сказать своей мучительнице. Увидев однажды в журнале против моей фамилии двойку по географии, Иван Исаевич удивленно поднял брови, спросил меня:
— Почему ты так снизил балл? Не знал урока, что ли?
Я объяснил: