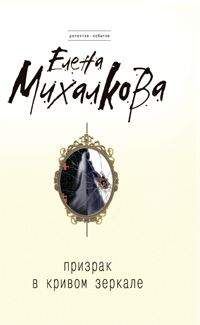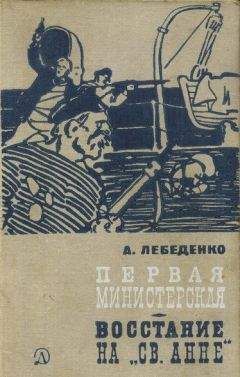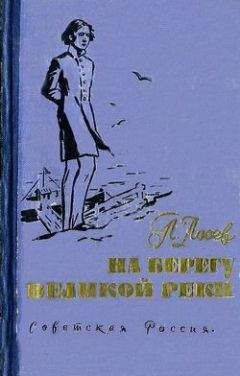Александр Лебеденко - Первая министерская
На скрещении двух улиц накапливалась толпа.
— Эй, брат, — сказал Ливанов, — не попереть ли нам подобру-поздорову по домам? Какой смысл ввязываться в уличные драки?
— Во-первых, это не уличная драка, а революция! — выпалил вдруг Котельников.
— Кто же здесь, по-твоему, революционеры? Драгуны, что ли? Или черная сотня?
— Так ведь это же бунтуют запасные. Они не хотят идти на войну. Вот и все!
— А ты знаешь, почему они не хотят идти на войну? Ты в деревне хоть раз был? Ты знаешь, что скоро поля убирать надо? А тут самых здоровых мужиков в Маньчжурию гонят. А жать бабы будут? — кипел Котельников.
— Так, по-твоему, с японцами войну кончать не надо? Пусть забирают всю землю до Байкала или до Урала. Так, что ли?
Толпа увеличивалась.
— Осади! — орали драгуны.
Полицейские, держа шашки в ножнах перед собою, рядами напирали на толпу, разгоняли группы молодежи и людей в пиджаках и косоворотках, державшихся вместе.
— А это кто? — спросил Василий.
— Это рабочие с табачной фабрики, с сахарного завода, с лесопилен.
— Ребята, пошли через базар! По Дворянской сейчас ни пройти, ни проехать…
В пыльных мусорных кучах, в вековых миргородских грязях залегла посредине города Соборная, она же Базарная, площадь. Массивным пятиглавым холмом поднимался над нею белый, свежевыкрашенный собор, выпустивший вперед колокольню, как часового на стражу.
Вся площадь в двойном кольце новых кирпичных зданий, магазинов и складов, а вокруг церковной ограды свалкой колченогой мебели клонились в разные стороны иссохшие, ободранные рундуки — деревянные ящики с навесами от дождя и солнца. День не базарный — торговли нет, но на площади людно: на серых досках рундуков, спрятав лица от июльского солнца под тень навесов, на распряженных телегах, на брошенных в пыль мешках с овсом и сеном лежат и сидят сотни не городских, приезжих людей.
Красные свитки, белые зипуны, холщовые грязные брюки, сапоги «акулий рот» глядели с рундуков. Калинкинские и казенные бутылки в лежачем, стоячем и наклонном положении блестели на солнце. В трех концах площади мурлыкала гармонь. Лирники, поджав под себя ноги по-татарски, сидели в пыли. Подняв лица к небу и закатив глаза, они изо всей мочи горланили бесконечные, монотонные песни. Городские гамены в почтительном изумлении созерцали пьянствующие компании. Иные, похрабрей, вступали в разговоры с запасными.
Расторопная хозяйка в ситцевом платье и замызганном переднике вела торговлю с рук сухой таранью и вареной картошкой.
— Голубчики-коханчики, купить тараню! Дывиця, яка жирна, аж слюны тикуть!
— Защытныкам, тетку, задарма полагаеця. Мы, може, в Маньчжурии за вас усих поздыхаемо.
— Це вы за царя та за отэчэство, а не за нас!
— От тоби и на! Так ты же и есть отэчэство, тетку! Дывысь, яка ты гарна та цицьката!
— Иды ты к бисовому батьку! В тебе, мабуть, грошей немае.
У одного из проходов на площадь раздался резкий свист.
— Казаки! — крикнул кто-то из запасных.
Сидевшие на рундучках, на земле вскочили, как по команде, только мертвецки пьяные продолжали светить на полдневном солнце желтыми пятками.
Драгунский патруль со всего маху влетел на площадь. Офицер поднял руку в белой перчатке, и кони стали, взметнув к небу тяжелое облако пыли.
— Разойдись! — скомандовал офицер, обращаясь ко всей площади.
Площадь молчала.
— Ну, я командую: раз, два!..
Офицер поднял шашку и замер в паузе.
— А чи не пойдешь ты к чертовой матери!.. — гаркнул пропитой бас.
В разных концах засвистали. Кто-то взыграл свирепо и решительно на гармонике.
— Чух! — булыжник звякнул у ног офицерского рысака. Драгунские кони попятились, словно от взрыва бомбы.
— Ах, так, — закричал офицер. — К бою… товсь!
Запасные уже сидели за рундуками и руками выкорчевывали из утоптанной базарной земли корявые булыжники. Некоторые отдирали доски и планки от рундуков, крушили церковный забор, другие, изогнувшись в три погибели, трусливо мчались между рядов брошенных стоек и рундуков к каменным амбарам, где можно было нырнуть на улицу.
Но здесь уже сторожили усиленные полицейские наряды. Городовые хватали беглецов, крутили им на спину руки и отправляли с нарядом молодых солдат в тюрьму, в казармы.
Драгуны по команде офицера выстрелили в воздух. В ответ в лошадей и всадников полетели бутылки. Тогда драгуны дали боевой залп. Трое, вздевая руки, роняя шапки, упали на землю. Бросая раненых, толпа с криком понеслась через площадь к собору, оттуда через ограду к церкви и дальше на большую улицу, куда глядели колокольня и главный вход собора. Люди ловко перелетали через зеленый забор, через широкие ящики рундуков, спотыкались, падали и, сливаясь в лавину, понеслись по улице, уже не сдерживаемые бессильными полицейскими патрулями. Драгуны мчались вслед за толпой, стараясь направить ее по Сухой к полю, туда, где длинными приземистыми рядами выстроились вокруг военной церквушки казармы местных полков.
Но всюду, где появлялся хотя бы один драгун или полицейский, синие, белые, коричневые стекла винтили солнечный воздух, сверкали в полете и с хрустом рассыпались в стеклянную пыль. За бутылками неслись камни, кирпичи, доски, щерившиеся гвоздями.
Гимназисты сначала метались из стороны в сторону, пытаясь уйти с поля этого своеобразного сражения, и, наконец, затихли под крепким новым рундуком.
— Опять мы в переделку попали, — сказал Андрей. — Что такое творится!
— А зато весело! — расхрабрился Ливанов.
— А за рундуком ты землю носом пахал.
— Ну, положим, сидел, как все. А получить в голову бутылкой, подумаешь, большая честь!
— Пошли, ребята, ко мне! Тут близко. У меня пересидим. Кстати, отец расскажет, в чем дело.
У Костровых дома — переполох. На улице творится такое, что упаси господи, а детей дома нет. Где бродят — неизвестно. Старик Костров внешне холодно-спокоен, но Матильда Германовна носится по комнатам. Няня причитает, крестясь на икону.
— Ты где шляешься? — загремел Костров.
— В библиотеке был.
— Какие теперь библиотеки. Видишь, бунт идет! Тут еще такое будет, что не знаешь, чем кончится, а тебя черт где-то носит!
— Андрей, это зачем? — шепнул вдруг Ливанов. — Что это вы такие богомольные стали?
С широкого подоконника гостиной были сняты вазоны с фуксиями и лилиями, и единственная сохранившаяся в небогомольном доме Костровых нянина икона в резном киоте глядела в окно на улицу. Перед иконой была пристроена в высоком фужере зеленая лампадка, и в ней слабо теплился огонек.
— Вот так на! — удивился Андрей. — Это что ж такое?
— Не твое дело! Нужно — и поставлено. Проваливайте к себе! — терял спокойствие Мартын Федорович.
— Какая это муха укусила твоего папахена? — спросил Ливанов.
— Икона!.. Ничего не понимаю.
— А я сразу понял, — хитро улыбнулся Костя, — увидят в доме икону — значит, русские, значит, погрома не будет.
— Откуда ты такой просвещенный?
— На колу мочала, начинай сначала!.. Видал, у Зальмерсонов тоже икона. Мы шли, я заметил, только так… ни к чему… а теперь сообразил.
— Они ведь не православные…
— Подумаешь! Как-нибудь вытерпят. Погром — это вещица похуже!
К вечеру ветер понес облака, тяжелые, как из заводской трубы, низкие, ползучие, приблизившие небо к земле.
Костров не пустил гимназистов на улицу. К Ливанову послали на дом девушку с запиской.
На улицах то в одном, то в другом конце города стреляли, словно кто-то вскрывал бутылки с шампанским. По большой улице — можно было видеть в окно — пробегали толпы парней из предместий и скакали по двое драгуны на усталых, вспененных конях.
Вечером в доме не зажигали ламп, и только лампада у иконы светила на улицу тусклым, мигающим языком.
— Ребята, и у соседей икона… и напротив.
— Варфоломеевская ночь!.. Помнишь, кресты и знаки смерти на дверях еретиков.
— Неужели ночью что-нибудь будет?
— Уже начинается… — сказал внезапно вошедший Костров. — Только без шума и без огней. На всю жизнь запомнится…
Из темной большой гостиной в окна была видна кривая улица городского предместья. Дом Костровых как бы запирал ее широкое пыльное устье. Костровским домом начинался чистый, ровный город, разбитый, как шахматная доска.
Теперь по улице мчалась беспорядочная толпа. Надвигающийся прибой рубах, пиджаков, лохмотьев, шапок, рук, ног… Люди бежали тяжелым, заплетающимся бегом, останавливались, чтобы передохнуть, и опять бросались вперед. Многие были без картузов, и нестриженые волосы рвал неутихающий ветер. У мужчин в руках были дубины и железные звенящие палки. Звериные глаза наливались мутью злобы и тупости.
Костров открыл форточку, и шум улицы ворвался в комнату кусками слов, рокотом проклятий…