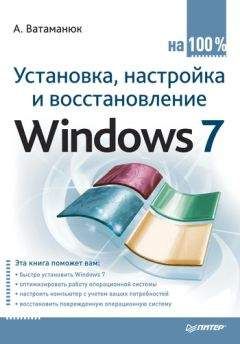Анастасия Перфильева - Далеко ли до Сайгатки?
И прилёг на подушку.
Варя, обхватив колени руками, уселась снова на чемодан. Сначала было тихо. Но вот где-то чиркнул сверчок, хрустнула половица… И неясно, но громко кто-то произнёс в спальне:
— Ты его под правую, под правую!..
Из-за занавески, отделяющей шкафы, показалась круглая голова. Варя вздрогнула.
— Жень, это ты? Что?
— Не спишь? Давай я с Вадимкой посижу?
— Нет, ничего, тише, а то разбудим…
Голова Мамая исчезла.
Лампочка, замотанная цветной тряпкой, бросала на шкаф сразу два пятна — красное и жёлтое. Тряпка шевелилась, точно дышала, и пятна шевелились тоже. У Сергея Никаноровича было доброе, совсем не старое лицо и белая бородка смешно торчала кверху — точно платком повязался. Руки сложены на груди, крест-накрест… Одеяло в ногах у Вадима похоже на свернувшуюся кошку. Бедный, больной Вадимка, зачем же ты бегал тогда в лес искать Мамая? Да ещё искупался в ледяной луже!..
Варя перевела на него глаза и снова вздрогнула, Вадим сидел, держа снятое с головы полотенце, и внимательно смотрел на неё.
— Вадимка… — сказала Варя, вскакивая. — Что с тобой?
— Нет, я не сплю. Понимаешь, давит очень… — Он взялся рукой за грудь. — Дедушка из Овражек приехал?
— Дедушка здесь, спит.
— Передайте, пожалуйста, что я не могу… Давит очень… — Он тяжело вздохнул и повернулся к стене. — Больно, понимаешь?
Варя осторожно вынула из его горячих рук полотенце, намочила и положила на лоб.
Внизу завизжала и хлопнула дверь. Кто-то шаркая прошёл по коридору, и Валентина Ивановна мужским голосом повторила:
— Завтра, завтра, чтобы к празднику…
«Бабушка приехала, — подумала Варя. — Какой праздник? Ах да, скоро праздник… Октябрьская революция…»
Быстрые шаги простучали по лестнице у двери. Скрипнула половица, из-за занавески выглянула Ольга Васильевна.
— Ты здесь, Варюша? Ну как?
С седых волос у неё на лицо сбегали, мелкие блестящие капли стаявшего снега.
— Бабушка, хуже ему. Завтра утром в больницу повезут, к нам в Сайгатку.
— Договорились о машине? А Сергей Никанорович… — Она замолчала, увидев его закрытые глаза. — Ну, мне надо ещё счета проверить. А ты, девочка, дай ему отдохнуть. — Она показала на Сергея Никаноровича глазами.
Опять стало тихо. В ушах тонко звенело, будто пел комар. Чтобы было удобнее сидеть, Варя привалилась спиной к тёплой от печки стене, а голову положила на край табуретки. Сергей Никанорович дышал ровно, посвистывая, Вадим — часто, с хрипом. Чёрное стекло в окне посветлело: видно, всходила луна.
«Вик… чирри… вик…» — выводил в углу сверчок.
Варя сунула под щёку кулак и заснула.
Когда она проснулась, Сергей Никанорович, нагнувшись, поил Вадима чем-то из кружки. Потом он прикрыл его поверх одеяла ватником, мягко взял Варю за плечи и подвёл к своей кровати.
— Я просто так… Я на минуточку, вы спите… — забормотала она.
— Ничего, ничего, ложись. Здесь ложись, а то поздно. Завтра поможешь Вадима перевезти в больницу?
— Помогу… И Мамай поможет, и Козлик, и все…
— Спи, девочка.
Седьмое ноября
В ночь под седьмое ноября неожиданно наступила оттепель.
Как весной, перепрыгивая через коряги, сбегали в овраг торопливые снежные ручьи. Сугробы у сайгатского клуба осели, почернели и покрылись ноздреватой коркой. Ветер дул тёплый, влажный, нёс из леса запах прели и хвои.
Окна сайгатского клуба были ярко освещены.
Маша Азарина, зажав зубами гвозди, с молотком в руках стояла у эстрады и прибивала к колонне большое красное полотнище. На нём ровными белыми буквами было написано: «Да здравствует двадцать четвёртая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Все силы народа — на борьбу с врагом!»
От свежевымытого дощатого пола поднимался тонкий пар. В середине зала, под новой блестящей люстрой пушистой бахромой зеленели набросанные еловые ветки.
— Выше, выше, Машенька, надо! — сказала Вера Аркадьевна, отходя в глубину зала.
Двери распахнулись. Вместе с прохладной свежестью в клуб ворвался смех: Ганька, Домка и ещё три сайгатские девчонки, топоча, ввалились в зал с охапками красных бумажных цветов.
— Вера Аркадьевна, глядите, каких мы венков наплели! — крикнула Ганя.
— Только мне наследите! — пригрозила Маша. — Пол опять мыть заставлю.
— Мы не наследим. Ой, Борис Матвеевич Пегого в район за гостями послали, а в Тайжинку за интернатскими цельный грузовик сельсовет нарядил!
— Ганя, ты в больницу не забегала? — тихо спросила девочку Вера Аркадьевна.
— Забегала… — Лицо у Гани сразу стало жалобное, виноватое. — Сказали — нету перемены. Варя в палате. Давеча её к Вадиму пустили…
— Я знаю. — Вера Аркадьевна отошла подальше в зал. — Маша, воля твоя, но придётся перевесить!
Девочки, сгрудившиеся у дверей, с жадностью рассматривали установленные по стенам скамейки, новую, привезённую недавно из Сарапула люстру, открытый чёрный рояль. Домка, втянув голову в плечи, прокралась к нему и приложила палец к открытой крышке.
— Блештит! — сказала радостно, показав щербатые зубы.
— Прошлый год об эту пору к нам артисты из города приезжали, — заторопилась Ганя на правах старшей среди подружек. — Пьеску играли. Хорошая пьеска!
— А мы — плясать, — расхрабрившись, сообщила одна из них. — Баянист полечку играл…
— Ну-ка, девочки, — позвала Вера Аркадьевна, — здесь тепло. Разуйтесь, вот ты и вот ты, и ветки мне подавайте. Портреты украсим.
Девочки все дружно, как одна, скинули валенки и зашлёпали босыми ногами по полу. За стеной совсем близко ударила гармошка.
— Спиридон старается, — грустно усмехнулась Маша. — Анатолию Ивановичу нашему теперь смена… Козлов играть его выучил. С Андреем этим их водой не разольёшь! Дружки…
Народу всё прибывало.
Сначала перетащили из конторы колхоза все табуретки и стулья. Потом Андрей со Спиридоном приволокли откуда-то доски. Раздвинули в последних рядах скамейки, положили на них доски и усаживались тесно друг к дружке. Ребятишки поменьше жались в проходах, висели на подоконниках.
Борис Матвеевич рядом с секретарем сарапульского райкома и председателем колхоза сидели в президиуме. Борис Матвеевич был строгий, нарядный, в тёмном костюме с галстуком вместо обычного комбинезона.
Интернатские опаздывали: за день развезло дорогу, должно быть, они застряли в пути. Всё-таки решили дождаться их, и уже тогда начали торжественную часть.
Когда встревоженная Варя в расстёгнутом пальто и чужом платке прибежала из больницы по хлюпающему снегу к клубу, вечер уже был в разгаре. Докладчик в белой вышитой косоворотке, размахивая, как маятником, рукой, горячо говорил:
— Всё это, дорогие товарищи, безусловно является достижением нашей революции. И за что они, товарищи, на нас полезли? За то, что мы им, как бельмо в глазу… — Он отпил из стакана воды и продолжал: — Безусловно, положение у нас в данное время нелёгкое. Но мы все, сражающиеся на фронтах и трудящиеся в тылу, все наши боевые силы…
— Воспитателя из интерната, Сергея Никаноровича, нигде не видели? — спрашивала Варя столпившихся в дверях клуба и сосредоточенно слушавших женщин.
На неё зашикали.
Наконец кто-то из девочек передал Гане, что там «Бориса Матвеевича Варька кого-то ищет», и Ганя полезла к ней навстречу. Вдвоём они пробились к выходу.
Сергей Никанорович стоял в проходе возле отмытых, подстриженных к празднику мальчишек. Валентина Ивановна и Ольга Васильевна были около девочек, наряженных в лучшие платья, разрумянившихся.
Как раз в это время председатель объявил с эстрады, что сейчас начнётся перерыв и после него — концерт самодеятельности.
В зале сразу зашумели, заговорили… Вера Аркадьевна, с красной повязкой на рукаве, торопливо меняла зачем-то на столе президиума скатерть. Борис Матвеевич с помощью Андрея Козлова выдвигал к рампе рояль, перебирал ноты… В передних рядах гудели, кто-то громко требовал: «Пусть Маша Азарина споёт!..»
Варя и Сергей Никанорович увидели друг друга одновременно. Он кивнул ей, сказал что-то Ольге Васильевне, та подозвала Веру Аркадьевну.
— Идите, идите спокойно. Кончится вечер, вас сменят.
— Благодарствуйте. Тогда, разрешите, пойду.
— Голиков, Женя, а ты куда?
Мамай, в синей сатиновой рубашке, с непривычно приглаженными вихрами, рванулся было за Сергеем Никаноровичем. Но тот, не замечая, уже быстро пробирался за Варей к выходу.
Через минуту оба торопливо шли от освещенного клуба по тёмной дороге к белеющей за последними домами Сайгатки больнице.
На крыльце у входа в клуб остались и тревожно смотрели им вслед Ганя в праздничном, перешитом из материнского, платье и помрачневший, взволнованный Мамай.