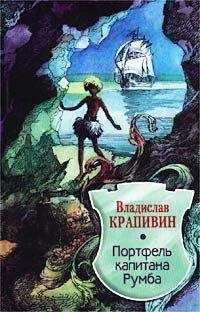Магдалина Сизова - «Из пламя и света»
ГЛАВА 26
Первого сентября 1830 года правление Московского университета слушало донесение профессоров, адъюнктов и лекторов, в котором значилось: «…Мы испытывали Михаила Лермантова… в языках и науках, требуемых от вступающих в Университет в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании…»
Лермонтов стал студентом Московского университета.
Но, прослушав несколько первых лекций, он почувствовал разочарование: Щедринский, читавший статистику государства Российского, и богослов Терновский, и профессор Смирнов с его лекциями по истории российского искусства оставили его равнодушным.
* * *«Роняет лес багряный свой убор…» Да, и лес, и скромные сады, и садики Москвы!
Он вспоминал эту строку, стоя перед разукрашенным осенью московским садом. Под зеленовато-голубым осенним небом — какое великолепие красок! И ему вспомнился тархановский парк в торжественном убранстве осени. Хорошо бы поехать на недельку в Тарханы! И можно, кабы не Университет! Сегодня была вторая лекция Погодина, он записал ее почти целиком, но надо будет вечером просмотреть и поправить конспект. Пока что, по-видимому, Погодин самый интересный лектор на первом курсе нравственно-политического отделения, хотя многое в воззрениях этого славянофила принять невозможно.
Знания, полученные в Университетском пансионе, и его собственная библиотека, которую он собирал с большим выбором и любовью, дали ему возможность критически разбираться во всем, что он слышал в университетской аудитории. И как ни мало нового сообщалось с кафедры — он шел в Университет всегда с интересом, потому что дух свободы и любви к отечеству жил в умах слушателей, зажигая молодую мысль и волнуя каждого приходившего сюда.
Он долго стоял перед облетающим садом. Может быть, вечером пойти побродить по Кремлю и по берегу Москвы-реки? Ах нет, сегодня чем-то уже занят вечер… Чем же? Забыл! Ну куда же девалась его память?! Сегодня он обещал Алексею и Мари Лопухиным почитать свои стихи. Никому их не читал, но Лопухины самые близкие друзья. С Мари он даже откровеннее, чем с самим Алексеем. Удивительная она девушка! Все поймет, обо всем с ней можно говорить, и всегда в минуту огорчения утешит.
В их доме на Малой Молчановке еще было темно. Но, подойдя, Миша с удивлением заметил чью-то карету. Странно, сегодня никого не ждали! Ну вот, теперь не дадут ему кончить конспект погодинской лекции. Да и к Лопухиным, пожалуй, не поспеть!
Раздосадованный, он вошел в дом, собираясь пройти прямо к бабушке и узнать, кто это к ней приехал незваным и можно ли будет все-таки провести вечер у Лопухиных.
Но ему сказали, что Елизавета Алексеевна ждет его в гостиной.
Свечей еще не зажигали. В гостиной сидели двое: тучный господин, державший цилиндр на коленях, и стройная девушка.
— Вот и мой внук, — громко произнесла бабушка. — Мишенька, это господин Иванов, друг твоего учителя Алексея Федоровича Мерзлякова, а это дочка его покойного брата Федора Федоровича Иванова — Наташенька. Да что же это свечей Прохор не зажигает, ничего не видно!
Когда яркий теплый свет свечей упал на лицо девушки, Мише показалось, что он никогда не видел лица прелестнее. Но не только лицо: вся фигура этой девушки, слегка наклонившаяся вперед, точно прислушивающаяся к чему-то, показалась ему необыкновенной и полной очарования.
— Слыхали, слыхали о вас, молодой человек, — сказал гость. — Мы с племянницей ехали по Молчановке и решили засвидетельствовать вашей бабушке свое почтение, а также просить ее, чтоб она отпускала вас на наши вечеринки. У нас молодежь бывает, скучать не будете.
Мишель поклонился.
— У меня есть друзья, которые в вашем пансионе учатся, — сказала девушка, — они мне ваши стихи читали.
Миша поклонился еще раз и подумал, что быть другом этой девушки — значит быть самым счастливым из смертных.
Был уже поздний вечер, когда карета Ивановых увезла их домой.
В эту ночь Мишель совсем не ложился. Он сидел на подоконнике в своем мезонине и смотрел, как медленно светлело весеннее небо, и вспоминал необыкновенное существо, посетившее их дом.
* * *«Может быть, странно… может быть, даже неудобно явиться в дом так скоро после приглашения?» — спрашивал он себя уже не в первый раз, старательно застегивая свой новенький студенческий мундир и приглаживая перед зеркалом густые темные волосы.
Но он знал, что пойдет сегодня же в этот дом, чтобы еще раз увидеть эту девушку.
С непонятным ему самому волнением подходил он к ее дому. С непонятным волнением подошел к ней и встретил взгляд ее ясных глаз.
В этот первый вечер он почти не отходил от Наташи, наблюдал за ней в те минуты, когда она занимала гостей (их было немало), бледнея от радости, когда она обращалась к нему, и страдая, когда она говорила с другими.
И когда он уходил из этого дома, он уже знал, что влюблен бесповоротно, что она действительно необыкновенна и что с этого дня не слышать ее голоса, не встречать ясного взгляда ее невозможно!
* * *В один ненастный и ветреный день 1830 года Миша, придя домой, пробежал прямо к себе и запер дверь. Против обыкновения он даже не пошел к бабушке.
Он положил на стол свежий выпуск «Атенея», торопливо развернул его и, найдя нужную страницу, провел по ней рукой, точно погладив напечатанные там строчки. Потом посмотрел на первое слово, стоявшее на верху страницы, и смущенно улыбнулся. «Весна», — проговорил он полушепотом и, так же полушепотом прочитав до конца, весь вспыхнул, посмотрев на маленькую букву «L», стоявшую вместо подписи. Впервые он увидел свое стихотворение напечатанным и не мог оторвать взгляда от этих четырнадцати ярко чернеющих строчек. Было удивительно, что все это он сам сочинил.
И не потому, что стихотворение было так уж хорошо, а потому, что напечатанное казалось ему чем-то необыкновенным.
Мысли и чувства, жившие до того только в глубине его души, стали теперь достоянием всех и точно зажили своей собственной, независимой от него жизнью. И это было так странно и в то же время наполняло его чувством какого-то чуть-чуть горделивого счастья.
И весь этот день — ненастный и знаменательный день — он был охвачен волнением, которого старался никому не показывать, радостью, о которой никому не хотел говорить.
Миша погасил свечу, и лунный свет осветил его комнату. Он смотрел на этот свет и засыпал и, засыпая, думал о том, что сегодняшний ненастный и ветреный день — знаменательный день его жизни.
ГЛАВА 27
Обычный шум в аудитории, казалось, не имел отношения только к одному студенту. Он сидел у окна и, облокотившись на подоконник, погрузился в чтение.
Он так был занят своей книгой, что не заметил появления на кафедре профессора.
— Господин Лермонтов, — произносит профессор громко, — пожалуй, можно теперь прекратить чтение?
Лермонтов перестает читать.
Но постепенно лицо его мрачнеет, взгляд делается скучающим и усталым. Он снова открывает книгу и, держа ее на коленях, незаметно читает.
Когда окончилась лекция, на что студент Лермонтов не обратил никакого внимания, профессор во второй раз обратился к нему:
— Скажите, пожалуйста, господин студент, что за книга так овладела вашим просвещенным вниманием?
Лермонтов ответил.
— Как? — Профессор забыл, что ему следует рассердиться. — Где вы достали этот ценнейший труд? Он только вышел…
— В моей библиотеке.
— Мне было бы чрезвычайно важно достать эту книгу на время. Чрезвычайно важно! Ежели бы вы…
— Пожалуйста, — сказал Лермонтов, протягивая книгу. — Вы можете брать из нее весь материал и для следующих ваших лекций.
Профессор с некоторым смущением взял книгу и покинул аудиторию.
Эта история облетела весь Университет, и слухи о «дерзком первокурснике» дошли до декана. Декан вызвал к себе студента Лермонтова для объяснений; но, поговорив с ним довольно долго, он в конце концов не нашел в его поведении «состава преступления».
— Это вполне порядочный человек, — сообщил он свое заключение в профессорской, — большая умница и весьма начитан. Свободолюбив, конечно, но что с этим поделаешь? Такова наша молодежь!
Вскоре после этого Лермонтов сидел у Алексея Лопухина.
— Согласись, Алеша, что ради профессоров в Университет ходить не стоит.
— Ох, Мишель, не криви душой! Не потому ли не слушаешь ты профессоров, что тебе жаль от своих стихов и драм оторваться? Ведь сколько ты написал! Только то, что знаю я, — посчитай! В одном этом году ты две драмы написал — «Испанцев» и «Menschen und Leidenschaften» и несколько поэм, а стихов-то, стихов!..
— Может быть, ты и прав, — говорит Лермонтов. — И в этом я только одному тебе признаюсь.
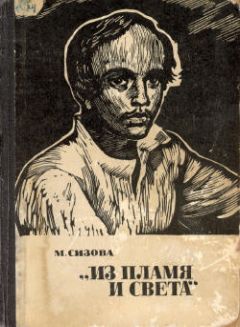
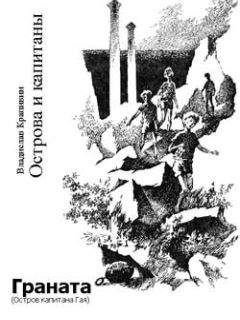
![Владислав Крапивин - Валькины друзья и паруса [с иллюстрациями]](/uploads/posts/books/209202/209202.jpg)