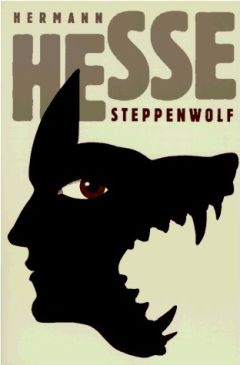Татьяна Толстая - Детство Лермонтова
Караул расставлен по старинке: к каждому одинокому дубу, выросшему на полях и отстоящему иногда на версту один от другого, приставлены два молодца с оседланными конями, привязанными к стволу.
Один парень сидел на вершине дуба, второй дежурил внизу, кормил оседланных лошадей и смотрел за ними. Если только дозорный замечал вдали черную движущуюся точку или слышал тинькание далеких дорожных колокольцев, он кричал товарищу, и тот садился на коня и мчался во всю мочь к соседнему дереву. Сторожа второго дуба спешили к третьему, четвертому, пятому, и так тревога доходила до усадьбы.
Прибытие первого всадника еще не означало верного известия, но приезд второго и третьего подтверждали его, и, пока кучер Юрия Петровича будет подгонять усталых лошадей, желая благополучно доставить хозяина до теплого угла, Арсеньева успеет увезти внука куда захочет.
За четыре версты от Тархан поставили зимовье на случай, ежели Юрий Петрович, устав с дороги, пожелает погреться и отдохнуть. Для него заготовлены были водка и разные припасы на ужин.
В избе поселили старика Сорокина со старухой. Ему было более восьмидесяти лет. Работу он исполнял уже вполсилы, но как сторож годился.
Человек он был надежный, верный; ему было приказано, заметив Юрия Петровича, выйти на дорогу с поклонами, зазвать барина в свою хату и стараться его задержать как можно долее, чтобы в Тарханах успели подготовиться.
Вот как был расставлен караул по воле Арсеньевой, но пока он стоял напрасно — Юрий Петрович не появлялся. Караульным же нудно было сидеть на деревьях в непогоду по восемь часов подряд, да и внизу стоять не лучше, надоедало унимать застоявшихся коней; а с места сойти нельзя — каждую минуту может появиться нежеланный гость, и тогда, ежели прозеваешь его, беда! Да и голодно стоять на морозе, грызя весь день сухой хлеб и запивая холодной водой.
Двое товарищей, стоявшие в дозоре, даже беседовать друг с другом не могли, переговаривались только криком: один подавал голос с земли, другой — с дуба, поэтому все дозорные, поставленные на дороге, мечтали только об одном — как бы поскорее приехали всадники их сменить, а там они быстро доберутся до своей избы, хозяйка достанет им горячий горшок кислых щей и рыхлую просяную кашу, которую так вкусно полить квасом: наедятся они и пойдут спать на теплую лежанку до того несчастного часа, когда управитель Абрам Филиппович Соколов войдет в избу с морозу, легонько хлестнет кнутом и велит подниматься — опять идти в караул на полевую дорогу.
Фрол Синицын, восемнадцатилетний парень, остриженный под горшок, был выбран передовым караульным за отличное зрение. Он терпеливо сидел на верхушке голого дерева, но устал. Пора бы домой! Напрасно он вглядывался в плотную туманную пелену сумерек — никого по-прежнему видно не было. Ноги его затекли от долгого сидения по-птичьему на суках. Смотри себе на пустую дорогу и жди, когда кто появится.
Фрол одет был в тулуп, но мерз и проклинал жизнь, бранясь, что окаянный барин не едет, и от злости даже показал кукиш поднявшейся луне. Вот услыхать бы звон колокольцев и сразу же засвистеть легоньким свистом, прыгнуть на коня — да в деревню, отогреться… О господи! А жаловаться-то кому? Внизу стоящий Иван Непомнящий не услышит, каждое слово-то надо выкрикивать!
Фрол размечтался:
«А куда лучше было бы, ежели бы барин приехал и долго в Тарханах прогостил, чтобы караул отменили хоть на месяц!»
Стемнело рано. В пустынном поле ветер гулял, то подвывая, то посвистывая. Снег в темноте надоедливо крутился перед глазами, и тело тосковало в ознобе. Дозорному стало даже казаться, что на спину ему выливают ведра студеной воды.
Фрол заметил, что в окнах зимовья зажегся огонек. Э, темнеет! Дед Сорокин в своей избе вздул лучину. Вот хорошо! Может, скоро смена придет!..
Чтобы размяться, Фрол перебрался на другую ветвь. Непогода тем временем разгулялась. Ветер метнул в лицо хлопья сухого снега и засвистел. Вдруг Фролу показалось, что у него зазвенело в ушах; он явственно услышал звон колокольцев — особых, с малиновым звоном, тех, что привязывал к своей дуге Юрий Петрович, чей звон знали все тарханские ребята!
Вглядевшись в темноту, Фрол заметил движущийся экипаж и вскоре убедился, что это действительно едет барин.
В восторге он живо слез с дерева и велел стоящему внизу Ивану Непомнящему скакать с известием ко второму дубу. Сам же он подождет, чтобы увериться окончательно.
Ванюха Непомнящий тотчас же с радостной песней вскочил на коня и поскакал. Фрол в волнении прислушался: вдруг он ошибся? Но звон колокольцев становился все яснее. Веселая песня его товарища, который радостно торопился домой, слышалась все глуше и глуше. Вскоре Ванюха доехал до зимовья и осторожно постучал в окно:
— Дедушка, эй, дед! Барин едет! Готовь вина и кипятку!
Немедленно же на пороге сеней появился дед Сорокин в посконной рубахе и переспросил:
— Неужто едет?
— Едет! — восторженно сообщил Ванюха и повторил: — Готовь вино ему и кипяток!
Он вскочил на коня и помчался во всю прыть, а дед Сорокин велел своей бабе поставить самовар, а сам надел тулуп и вышел на дорогу.
Когда возок поравнялся со сторожкой, дед остановил проезжавших:
— Заезжай, кормилец, заезжай отдохнуть!
Кучер замедлил бег коней.
— Куда торопиться? Заходи, добрый человек, погреться в избе. Не узнаёшь меня, что ль? Арсеньевой я человек. Сорокин.
Двери возка раскрылись, и Юрий Петрович сошел на снег:
— Есть у тебя что-либо горячее, старик? Застыл я совсем. Угли в жаровне погасли.
— Голубчик, родимый, барин, я-то сразу тебя не признал! Ах я, слепая макура! Пожалуйте в избу, тотчас вам угольков соберу да чайком угощу либо водочкой — что душе угодно!
Старик Сорокин с поклонами распахнул дверь в сени.
Юрий Петрович вошел в теплую избу, сбросил шинель с пелериной, распрямился, подошел к печке и с наслаждением протянул покрасневшие руки в кружевных манжетах к огню.
Старик, невольно любуясь осанкой молодого барина, зашамкал:
— Лицом-то ты лучше всех бар в округе и добёр, почему же тебе бог счастья не дает?
Старуха тем временем накрывала на стол: положила каравай хлеба, поставила графинчик с водкой, достала соленые огурцы и квашеную капусту. Когда она налила стаканчик, Юрий Петрович обратился к старику:
— Ну, хозяин, выпьем? Моих пареньков тоже угости, небось замерзли, едем давно!
Кучер его и слуга стояли у дверей.
Старуха наливала стаканчики, а Юрий Петрович расспрашивал, какие новости в Тарханах. Сорокин стал медленно рассказывать про постройку нового дома, а тем временем дозорные, почувствовав, что их усталость сразу прошла, как только могли быстро скакали в Тарханы, где после прибытия первого же гонца поднялась тревога.
Глава VI
Дорогие могилы. Приезд в Тарханы Юрия Петровича. Арсеньева увозит от него Мишеньку
Какая сладость в мысли: я отец!
И в той же мысли сколько муки тайной —
Оставить в мире след и наконец
Исчезнуть! Быть злодеем, и случайно, —
Злодеем потому, что жизнь — венец
Терновый, тяжкий, — так по крайней мере
Должны мы рассуждать по нашей вере…
Хотя Арсеньева и уверяла, что стала затворницей, но так гостеприимно встречала гостей, угощала их, а вечерком усаживала играть в карты, что вскоре, прослыла «первой дамой, задающей тон в Чембарском уезде», и к ней стали ездить — одни, чтобы отдохнуть несколько дней, другие, чтобы узнать последние новости, до которых Арсеньева была любительницей: она умела узнавать все первая.
Вскоре Арсеньева освоилась в своем новом доме в Тарханах, как умела осваиваться повсюду, и прежде всего решила позаботиться о своих дорогих покойниках.
Прошло уже восемь лет со дня смерти мужа, и пора было доказать, что она, как примерная вдова, оказывает достаточно внимания своему безвременно погибшему супругу.
Над подгнивающим гробом с предосторожностями был выложен новый склеп.
Память мужа и Марии Михайловны была увековечена: часовня выстроена. Памятники привезли из Москвы. Над склепом Михаила Васильевича установлен был белый мраморный четырехгранный памятник с досками на каждой грани: в центре — имя, отчество и фамилия, налево — дата рождения, направо — Дата смерти. На четвертой стороне памятника Арсеньева велела выбить напутствие Михаилу Васильевичу, всего несколько слов, но они, возможно, имели в жизни особый смысл как для него, так и для нее.
На памятнике Марии Михайловны она отметила кратковременность жизни ее:
Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Л Е Р М А Н Т О В О Й, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24, в субботу. Житие ей было 21 год 11 месяцев и 7 дней.Традиционная мраморная колонка, с урной и крестом наверху, была увенчана бронзовым переломанным якорем — символом разбитых надежд.