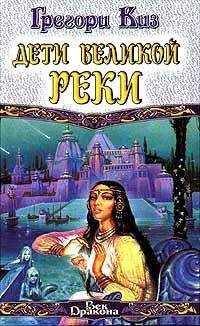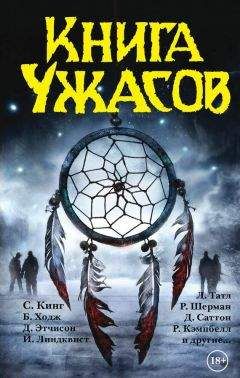Вячеслав Сукачев - Белые птицы детства
И минут через двадцать они идут на озеро, желтеющее впереди высоким камышом. Там, на озере, стоит многоголосый гвалт, то и дело стремительно проносятся утки, косо, на крыло, падают чайки, как бы скользя по невидимой наклонной доске.
— К озеру надо подходить с подветренной стороны,— тихо поучает Серёжу дед,— чтобы утка тебя не услышала. И чем крепче ветер, тем смелее можешь подходить, потому как шумит камыш, плещут волны и где ей тебя услыхать... А теперь пригнись, вот так, и вон до той кучки! —- вдруг шепчет дед и, низко пригнувшись, бежит вперёд.
Так, перебегая и таясь, они подбираются к маленькому заливчику, и под рыжей стеной камыша Серёжа различает уток. Пара клоктунов, запоздало нежных, уединилась здесь, забыв обо всём на свете. Они необычайно пестры и нарядны на фоне камыша и зеркально-чистой поверхности воды, наглухо защищённой от ветра. Особенно селезень — прямо-таки писаный красавец. Маленькая опрятная голова у него чёрно-зелёная, бархатистая, отливает металлическим блеском. Щёчки золотисто-кремовые, пятнистая грудь словно забрызгана рассветом. А по спине змеятся длинные, в трёхцветную полоску, струйчатые косички. Самодовольно озираясь, утиный франт стал быстро запрокидывать голову назад и вновь опускать вниз. Смотреть на это Серёже было очень интересно и смешно.
— Это он кланяется подружке, — тихо пояснил дед, — хвастает своими нарядами. Ну ничего, счас мы его угостим подарочком, чтобы впредь сильно-то перья не распускал. Где твой патрон-то, не потерял?
И Серёжа замирает, мгновенно поняв, что сейчас ему придётся стрелять в этих уток. И если он сможет выстрелить хорошо, вот этот селезень, такой живой и нарядный, будет молча лежать на земле, как недавно лежали гуси. И прежде чем ответить деду, он лихорадочно соображает, вспотев от волнения и страха, как предупредить уток, как вспугнуть их, чтобы они скорее улетали с этого предательски тихого заливчика.
А дед между тем уже переломил двустволку и вопросительно смотрит на Серёжу, и равнодушные стволы холодно мерцают воронёной сталью.
— Ну, давай быстрее, а то улетят.
— Нету,— вдруг громко говорит Серёжа и сильно хлопает себя по карманам. — Я его потерял.
— Тс-с! — Дед испуганно втягивает голову в плечи, но уже поздно: утки коротко разбегаются по воде и стремительно взлетают, громким и пронзительным «клок, клок, клок» оповещая обитателей озера об опасности. И что тут начинается: огромные стаи уток всплывают над камышами, поднимаются всё выше и, сделав небольшой круг, улетают в сторону реки. Две цапли, прижав к серому брюшку длинные тонкие ноги, стороной обходят их и тоже направляются к Амуру.
— Ну, Серёжа, как же ты это? — упрекает дед, выпрямляясь во весь рост и забрасывая ружьё за спину.
Серёжа не отвечает, счастливыми глазами провожая стремительный полёт птиц, обласканный утренними лучами солнца. И дед, искоса поглядывая на него, лукаво улыбается в пышные рыжие усы. И мир так огромен, и так в нём просторно и светло, что хочется Серёже сейчас подняться вслед за птицами и легко скользить по голубому прозрачному воздуху.
И НИКТО НИКОГДА НЕ ОТВЕТИТ
А день начинался так, как начинается любой день вот уже многие тысячи лет на земле: взошло солнце, осветив луга и пашни, тайгу и мари, остывшая за ночь земля запарила, задымилась тонкими струйками в подвижном и прозрачном воздухе. Река, высветленная осенью, отчуждённо и холодно утекала на северо-восток, туда, где расступаются горы и монотонно шумит суровое Охотское море. И день был так похож на все остальные...
Осень стояла на распутье. Давно пожухли, порыжели травы, лишь кое-где запоздало зеленел папоротник да забытый летом стебель полыни. Не успев отцвесть, печально остались в зимовку засохшие цветы посконника и пижмы. Просыпались на холодную землю плоды и семена, только на калине светились бусинки да лакомились рябиной затяжелевшие рябчики.
Всё в этот день было так, как и должно быть в середине октября, и даже скрипучий крик сороки «скор-ро, скор-ро, скор-ро» никому не показался преждевременным.
2— Только без обмана,— ещё раз напоминает Васька, прежде чем свернуть в свой двор.
— Сказано, — коротко отвечает Серёжа и недовольно косится на Настьку, с равнодушным видом поджидающую его невдалеке.
— Витька Зорин в прошлый раз пять штук нашёл.
— Пять штук?! — недоверчиво круглит глаза Серёжа. — Да ну?
— Только рано утром надо, чтобы ещё до света из дома выйти.
— Меня дедушка разбудит.
— А я, как приду, так тебе сразу и свистну,— Васька всё медлит уходить и неожиданно кивает в сторону Настьки: — Чего она?
— А я знаю, — хмурится Серёжа, — может быть, задачку решить...
— Ага, задачку, — смеётся Васька, и рыжие заплатки на его носу расползаются к прищуренным глазам.
— Ты чего? — Серёжа бледнеет и напрягает голос.
— Покедова, — машет портфелем Васька и поспешно открывает калитку. — Лодку у деда не забудь попросить.
Серёжа тяжело переводит дыхание и медленно идёт к Настьке.
— Ты почему здесь стоишь? — шепчет он сквозь плотно стиснутые зубы. — Кто тебя просил здесь стоять?!
— Вот ещё. — Настька встряхивает головой, и короткая чёрная косичка летит с одного плеча на другое. — Где хочу, там и стою.
— Вот и стой тогда здесь хоть до утра.
Серёжа проходит мимо Настьки, независимо покачивая портфелем и всем своим видом показывая, что Настьки не существует для него.
— Твой Васька конопатый и противный! — кричит сзади Настька. — А ты с ним дружишь...
— Не твоё дело, — не оборачиваясь, отвечает Серёжа и прибавляет шаг, так как давно и хорошо знает, что от Настьки избавиться нелегко.
— Ты как приехал из Крыма, так и задаваться начал, — догоняет его Настькин голос — Подумаешь, путеше-ественник. Пржевальский нашёлся!
Серёжа не отвечает, и уже только два дома остаётся до конца села, когда Настька обгоняет его.
— Подожди, — запыхавшись, говорит она, — чего скажу тебе...
Серёжа останавливается и недоверчиво смотрит на переводящую дыхание Настьку Лукину, в её карие, гладко блестящие глаза.
— Ну?
— Подожди...
— Сколько ещё можно ждать?
— Возьмите меня с собой, — вдруг выпаливает Настька, и лицо у неё становится таким напряжённым и несчастным, столько в нём ожидания и покорности, что Серёжа невольно смущается и растерянно спрашивает:
— Куда тебя взять?
— Ну, этих, подранков искать...
— Что-о-о?!
— Я глазастая, — заторопилась сообщить Настька, — я знаешь как вижу! Уже никто не видит, а я ещё вижу. В прошлом году, когда у дяди Трофима на покосе в речке топор утонул, я первая его увидела. Он лежит на дне, между камешков, потихоньку качается. Дядя Трофим вон как обрадовался... Возьми-ите, Серёжа...
Серёже становится жалко Настьку и уже самому хочется, чтобы она поехала с ними на Ванькину протоку, но он боится, что его засмеют ребята, и в первую очередь — Васька Хрущёв.
— Я ведь не один поеду, — говорит Серёжа, — а они не согласятся.
— Это кто, Васька не согласится? — узко щурится Настька. — Он специально на второй год остался, чтобы с тобой за одной партой сидеть... Пусть только попробует не согласиться... А ты... согласен? — Настька вновь смирила голос и потупилась круглым лицом.
— Мне что, — вроде бы равнодушно пожимает плечами Серёжа, — мне места в лодке не жалко. Да только...
— Я раньше всех приду, вот увидишь, — подпрыгивает на месте Настька, и в следующее мгновение оторопевший Серёжа видит лишь её чёрную, прыгающую по узкой спине косу.
3— Ты что же, касатик, припозднился нынче? — спрашивает Серёжу бабушка, выставляя на стол вкусную дымящуюся в миске лапшу с гусиным крылышком.— Я уже второй раз лапшу-то грею.
— С ребятами был,— отвечает Серёжа и берётся за ложку.
— С кем это? — Бабушка садится напротив Серёжи и подпирает щёку рукой, и полуденное солнце, косо врываясь в низкое окно, высвечивает жёсткую морщинистую щёку и перевитую синими венами кисть руки.
— Да с Васькой Хрущёвым, а потом ещё Настька приставала.
— Чего ей?
— С нами хочет ехать, подранков искать. Вот и подъезжала всяко, уговаривала...
— Уговорила? — улыбается бабушка.
— Да ну её. Не отвяжешься.
— Добрый ты, до-обрый, Серёжка, — вздыхает бабушка, — обратает тебя какая бабёнка и будет весь век понукать да веником прихорашивать...
— Так я и дался, — хмурится Серёжа.
— Дашься, куда денешься. — Бабушка задумалась и смотрит в окно, потом печально говорит: — Вон Парунька с почтой побежала, а к нам опять не заходит... Что-то не пишет твоя мамка, какую неделю писем не шлёт. А у меня сердце заходится, ой как заходится, Серёжа, так ему нехорошо, так муторно делается, что и не сказать... Вот как подумаю, как раздумьем возьму, что одна она там среди люда чужого. — Уголком косынки бабушка вытирает глаза. — Ох, господи-и, как жить-то будем?