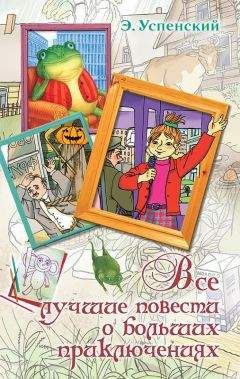Ирина Богатырева - Луноликой матери девы
Он был как больной, и слова его, горячие, как в бреду, из него изливались. От каждого его слова в моей голове поднимался шум, от страсти, с которой говорил он, словно ветер гудел в ушах. Очи же молчала, ему не отвечала. Как выдохся поток его слов, она заговорила:
— Ты сам зверь, Зонар, и только ты меня можешь понять. Я задыхаюсь от лжи ваших людей. В каждом слове и взгляде ложь, что у дев, что у парней. (Он засмеялся резко и неприятно, но Очи оборвала его.) Если и есть кто-то, кто понимает это и это во мне, так ты лишь один. Девы ваши меня до сих пор боятся и дикой считают. Парни за пугало держат, все норовят при случае пальцем ткнуть: вот лесная дева, говорят, а глаза горят, каждый только и думает, как бы поймать такую дичь. Скучно и душно у вас мне, Зонар.
— Так уйдем же! Сейчас! — Он снова ринулся к ней, пытаясь обнять и притянуть к себе, но она вырвалась, толкнув локтем в грудь. Он резко выдохнул, охнув, а кони шли как ни в чем не бывало дальше.
— Ты о другом забыл, Зонар, — продолжала Очи. — О том, кто я такая. Ты все лесным духом меня считаешь, но такой я была до этой осени. Теперь другая. И есть надо мной власть.
— Кто? Или Ал-Аштара? Она же дитя!
— Не она. Она! — сказала Очи и указала пальцем в месяц, уже скрывающийся за горой.
— Как ты можешь верить в это, Очи?! Ты! Ведь мы с тобой знаем, что лишь одна власть существует в мире — власть крови в наших жилах.
— Ты мужчина, Зонар, — отвечала Очи спокойно и так, как никогда слышать мне не доводилось: холодно, словно больше знала о жизни, чем все. — Вам она ничто. Мне же обещает такое открыть, что в век не открою, если уйду с тобой и от нее отрекусь.
— Очи! Ты ли хочешь жить в чертоге, где пахнет бабьим потом от постоянных прыжков с оружием? Ты не сможешь там жить, тебе дурно станет! Ты же зверь, ты хищник, ты такая, как я!
— Не говори о том, чего не знаешь! Да, я этого не хочу. Но она открывает нам такое, что вам, мужчинам, только перед смертью открыться может.
— Что же это? — спросил Зонар, и они вдруг остановили коней.
Луна почти скрылась. В чуть серебрящейся тьме их лица были мне не видны. Лишь слышны голоса, режущие темноту.
— Власть. Над ээ власть. Над ээ-борзы высшую власть, — тихо сказала Очи.
— Такого нет у людей, — звенящим шепотом ответил Зонар.
— Камка не человек, а я камкой стану.
И замолчали. Что видели в тот момент они друг у друга в глазах, мне неизвестно. Вдруг залаяла в стане одинокая собака.
— Я одна дальше еду, — сказала Очи.
— Так ты придешь? — спросил он, хватая ее коня за узду. Но она взглянула на него — и он тут же выпустил узду из пальцев. — Скажи, что придешь. Я сейчас же брошу стан, на своей деляне ждать тебя буду. О нас забудут все. А если доля твоя такова — не покинет она тебя, даже если со мною ты станешь!
Очи молчала. Слышала я, как наборная узда звенела в ее пальцах.
— Так ли это, Зонар? — вдруг таким знакомым, ясным, детским голосом спросила она. Очень самой хотелось ей в это верить.
— Те, Очи! Доля — это то, что дали нам духи. Хоть к дальним стоянкам откочуй один и там, с чужими людьми, чужой жизнью начни жить, — и там настигнет тебя. А пояс твой — это не доля. Это долг, который тебе, с твоим сердцем, невыносим будет. Не бойся, Очи: если его ты оставишь, не потеряешь долю великой камки.
Он был как больной и говорил как больной, и Очи верила ему: говорят, что больные не врут и предсказывать могут будущее.
— Ответь же: придешь? — дрожа, как на морозе, в нетерпении снова спросил Зонар.
— Приду.
Он охнул, будто опять ударила она его, и коню своему так сжал бока, что тот заходил.
— Когда же? Скажи! Я сейчас же уйду и не появлюсь в стане. Но ты скажи, сколько тебя ждать?
— Я хочу увидеть праздник весны.
— Нет! — вскричал он, словно она его ударила. — Как это можно! Еще столько дней! Зачем он тебе? Бабьи вопли, скачки да пьянство. Приходи на третий день.
— Нет. В полнолунье приду.
— Хорошо, — ответил он, поняв, что бесполезно с ней спорить. — Хорошо. Помнишь, где моя нора? Запоминала?
— Я все помню.
— Хорошо, хорошо. Я буду тебя ждать. Я уже тебя жду. Ты слышишь? Слышишь?
Она ему не ответила. Тут он снова склонился к ней, и она не оттолкнула. Черные их силуэты слились. Как от боли, я зажмурилась и голову закрыла руками. Услышала топот — открыла глаза: во весь дух летела Очи, а Зонар вздыбил коня, крутился на месте, будто еще не знал, за ней ли спешить, прочь ли стремиться. Наконец, развернул коня и пустился в тайгу.
Меня колотило, как в болезни. Хотела бежать к дому, но ноги подгибались, будто пьяна была. Был бы снег кругом, легла бы в снег, умылась, но вокруг голая, мокрая была земля, и как ни качало меня, хватило духу в грязь не сесть. Неспешно, с каждым шагом собираясь с мыслями, отправилась я к дому.
Впервые за все время, сколько в стане мы жили, я пожалела, что нет рядом Камки, чтобы спросить совета. Впервые я ощутила себя одинокой и всю тяжесть власти над человеком, мне порученным Бело-Синим, ответственности за него, ощутила на себе.
В дом вошла тихо — даже мамушка не подняла головы. Все спали, Санталай дышал шумно, светильники были потушены, лишь огонь тлел в очаге. Очи лежала в моем углу, и по ее позе, по дыханию было неясно, притворяется или правда уже спит.
Я сняла со стены один из светильников, зажгла от очага и, прикрывая рукой, подошла к ней, склонилась, заглянула в лицо. Чуть напряженным, но ровным, спокойным оно было. Ни страданий, ни сомнений не отразилось на нем. Только сейчас увидела я — или неверный свет сделал это? — как изменилась Очи за неполные три луны. Неискушенной девочкой пришла она к нам — уверенной, твердой стала. Я смотрела на нее, и весь их разговор звучал в голове, но верно ли поняла я все, что говорила Очи? Видела я по ее лицу, что тайную дальнюю задумку имеет она. То ли было это, о чем я слышала, — уйти к мужчине, отказаться от служения Луноликой, — или же мысль была иной, и ее она не сказала даже Зонару? Так думала я, когда Очи открыла глаза.
Она не удивилась, увидев меня, и не сощурилась от света. Так спокойно и прямо смотрела на меня, что в первый миг подумалось мне: она знала, что я скрывалась за домом, и все слова эти для меня одной они говорили, а завтра вся молодежь будет надо мной потешаться в доме братьев Ату. Мне захотелось задуть огонь, отойти и забыть все, но тут же я поборола эту слабость: пусть это розыгрыш, но я сыграю ту роль, что мне отвели духи.
Я сказала: «Идем», — поднялась и пошла из дома. Я знала, что она послушает, знала, что догадывается, о чем хочу с ней говорить. Но я сама не знала еще, что скажу.
Я пошла за дом, поставила светильник на ларь, чтобы свет не прыгал в руках. Дрожь охватила меня, придя из сердца. Что бы ни делала, не могла совладать с ней, и огромных усилий мне стоило говорить, чтобы не дрожал голос. Очи подошла и стала молча смотреть на меня. Почти любопытство было на ее лице, и это меня поразило. Я почуяла, что совсем не знаю эту деву.
А я все не могла начать. Время стало тяжелым. Я искала слова сильные, едкие, достойные вождя, чтоб сразу остановить ее, но то, что вырвалось из меня наконец, было полно страдания больше, чем я бы того хотела.
— Скажи, ты правда уйдешь? — сказала я.
Она слегка улыбнулась едкой, обычной своей улыбкой и отвечала, не глядя на меня:
— Я знала, что тебе откуда-то все известно. Как увидела, что тебя в доме нет, так поняла. Но как ты выследила нас? Или давно следишь? — При этой мысли злая подозрительность мелькнула в ее глазах.
— Нет, я не знала и не следила. Мой ээ показал мне вас.
— Мне бы такого ээ, — спокойно, но с нежданной завистью сказала Очи. — Давно великой камкой была бы.
— О чем ты, Очи? — сказала я, и опять в голосе было больше скорби, чем гнева. Не так думала я говорить с ней. — Духи те к нам приходят, кого осилить можем. Не мне говорить тебе это.
— Не тебе и о другом со мной говорить.
— Мне. А что скажу Камке, если уйдешь с Зонаром?
— Ей-то что? Мы свободны, пока не завершено посвящение.
— Да, свободны. Но она мне тебя как дочь доверила. И что я скажу ей?
Она вдруг развернулась ко мне боком, обмякла и опустилась на поленья. Вся сжалась, а лицо уткнула в ладони. Я же стояла над ней, не шелохнувшись, глядя снизу вверх, и дрожь не отпускала.
— Ты все слышала? — спросила она, не оборачиваясь.
— Все.
— Как думаешь, он верно говорил? О доле?
— Не знаю. Для меня доля и служение Луноликой неотделимы. Меня не настигнет она, если от нее откажусь. Другой судьбы не выбирала я, а о чужой доле рассуждать не смею.
— Но почему, скажи, почему так дорого просит Луноликая?! — вдруг выдохнула она с болью. — Скажи мне, сестра! Скажи, зачем всю жизнь нам потом страдать, сожалея о том, чего никогда не имели? Разве убудет что-то с нас, если не девами мы будем служить Луне?