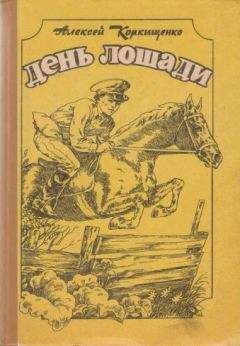Алексей Коркищенко - Золотой круг
Над степью неожиданно прокатилось: «Ура-а!», слившееся в один протяжный крик «а-а-а!» — будто волка травили крестьяне, — и тогда пулеметчик Федор окончательно пришел в себя. Его душа содрогнулась от всепоглощающей, страшной боли. Она была такой немыслимо тяжкой, что в смятенном сознании зародилась странная мысль: это через его тело передаются боль и мука земли, исковерканной фугасами, выжженной до черноты. И он ощутил удары сердца — не своего сердца, а земного, — удары глухие, замедленные, ослабленные великими страданиями.
В лицо истекающего кровью солдата ударило дымной духотой. Ему пригрезилось, что это суховей, проклятый враг земли, дохнул на него… И тогда он вспомнил майский дождь из детства.
Дни в мае стояли сухие, пшеницу прихватывало жарой, ее стебли желтели, земля трескалась на большую глубину.
— Ой, беда! — сокрушались мать и бабка Матрена. — За что ж нас карает господь?.. Надо полить могилу ямщика.
Там, среди степи, неподалеку от их поля, в привялых травах стоял железный крест. Бабушка Матрена рассказывала Феде про этот крест:
— В старое время ямщик пана из Кугея в Азов на санях возил… Ну, отвез да обратно отправился, а буран поднялся такой — не приведи господи! — и посеред степу его прихватил. И кто знает, может, ямщик придремал, а может, на повороте его из саней выкинуло, только лошади сами в Кугей прибежали. Люди кинулись искать ямщика, да как его найдешь в такой замети?.. Нашли лишь весной, похоронили тут, в степи, крест железный поставили… Гнался, видно, бедолага, за лошадьми, шапку потерял — нашли ее отдельно… Вот с тех пор и поливают люди его могилу в сушь, по старому обычаю, чтоб дождь пошел. Помогает, говорят…
Бабушкин рассказ поразил воображение внука, загорелся он, страстно желая, чтоб пошел дождь и посвежела, налилась соком увядшая пшеница.
— Бабушка, давай польем могилу ямщика!
Наточили они ведерко воды из бочонка и пошли к могиле. Поливала ее бабушка Матрена крест-накрест, что-то шепча про себя. И самым поразительным для маленького Федора было то, что дождь все-таки пошел. Сейчас Федор Яковлевич точно не помнит, в какой именно день дождь пошел: в тот ли самый, когда они полили могилу, а может быть, позже. Хорошо помнит, как это было. В степи вдруг стало душно и парко, и над морем поднялась туча. Закружились быстрые пыльные вихри, сгоняя птиц с неба в чибии. Туча росла-росла и, закрыв солнце, темно-синей стеной наклонилась над ними. Жутко стало Феде. И он вскрикнул, когда по этой стене пошли огненные трещины: казалось, вывалятся из этой страшной стены темно-синие куски и упадут на землю, придавят их. Грохнуло так сильно, что заложило уши. Они спрятались под арбу, прикрылись ряднушками. Мать прижимала к себе его напрягшееся тело горячими, коричневыми от засохшего молочайного сока руками, шептала:
— Не бойся, сынок, не бойся…
А бабушка молилась:
— Господи, упаси нас от грома и молнии!
Первый дождь, крупный и редкий, топоча, пробежал по пыльной дороге, оставив темные рябинки, и через несколько мгновений за ним припустил второй дождь — шумный, плескучий, с брызгами расколовшихся капель. Почти не умолкая, гремел гром, и молнии ломаными копьями падали на землю. Вскоре побежали ручьи. Туча облегчилась, сделалась прозрачной и ушла в сторону Займо-Обрыва. Они выбрались из-под арбы.
— Слава тебе господи, в пору мы полили могилу ямщика! — воскликнула бабушка и рассмеялась.
А его, только что пережившего грозу, охватил неизъяснимый восторг: пшеница была залита волшебным светом — в дождевых каплях, висевших на ее листьях, вспыхивало разноцветное солнце. Мокрые жаворонки выбегали на дорогу, встряхивались и с песней вспархивали в синее, вымытое небо. От сырой земли шел теплый пар, облекая озябшие ноги, тело согревалось, в сердце таяла неясная тревога.
Отец прискакал к ним из села на лошади, весело-встревоженно спросил:
— Вы тут живы? Не побило вас громом?
Лошадь тоже была веселая: она игриво тыкалась мордой в лицо Федора, обрызгивая теплой слюной, пыталась прилизать его волосы языком…
Майский дождь из детства пролился на воспаленную душу солдата — она не сгорела, вынес он нечеловеческие боль и жажду и остался жив.
Ощущение реальности стало возвращаться к нему с того мига, когда ему показалось, что слышит голос Гали. В памяти ярко сверкнула картина: Галя стоит в кухоньке на их дворе, улыбается ему ласково и влюбленно…
— Федя, встань… Поднимись, — слышался родной голос. — Не засыпай… Пропадешь… Встань, родной, не поддавайся сну… Уснешь навсегда…
Галин голос звучал явственно, Федор был уверен, что он ему не мерещится, что Галя и в самом деле находится где-то близко. Ведь она, наверное, стала санитаркой. Она писала ему, что сразу же после освобождения Дона от оккупантов ушла в действующую армию. Писала: будет проситься в его часть… «Она нашла меня! Она здесь, рядом… Галя, Галинка! Сейчас встану… сейчас…»
Федор оторвал от горячей земли свое непослушное, тяжелое тело — откуда только появились силы!: — сел, упершись о вывороченную снарядом глыбу правой рукой, левая висела плетью. Он держался, пока санитары, вышедшие на поле боя в поисках раненых, не заметили его.
Пулеметчика Федора Канивца вынесли с поля боя, выходили, но на фронт больше не пустили: кроме контузий и тяжелого ранения руки, у него была повреждена спина и задето легкое.
3Федор возвращался домой осенью сорок четвертого года через разрушенные, сожженные города и села. Видел людей, восстанавливающих родной донской край. Неотступно думал об одном: чтобы добить проклятого фашиста и поднять народное хозяйство из руин, нужна великая сила. А сила народа в чем? В хлебе. Эта истина предстала перед Федором в те дни в новом свете.
Села родного Федор не узнал: оно было разграблено гитлеровцами, колхозные постройки сожжены, тракторы и комбайны искалечены… И дома безлюдье — мать да дед с бабкой… Старший брат Петр, младший Андрей и отец были на фронте. Да и людей-то во всем селе осталось — старый, малый да немощный-калеченый.
Раны еще не затянулись как следует — стал Федор ходить на колхозный двор. А что это был за двор? Остались от построек обгорелые саманные стены без потолков. Прикрыли их камышовыми пучками сверху, чтобы дождем не заливало и снега не наметало, и работали. Перекидывали трактора СТЗ — из трех один собирали. Возились от зари до зари в любую погоду. Ремонтировали плуги, сеялки, бороны, комбайны. К счастью, цела осталась кузница и жив был кузнец. Чего только не приходилось делать и сочинять в этой кузнице! Талантливый мастер работал там, поистине самородок, — Архип Ильич Кравченко. Старенький, но шустрый, веселый человек. Помощником у него был Миша Андрющенко — сметливый, расторопный паренек. Ему-то было всего лишь пятнадцать лет, но молот в его руках играл, как молоточек.
Работал в мастерских и комбайнер Афанасий Васильевич Щербинский, у которого Федор проходил трудовую школу еще до войны. С войны Щербинский вернулся больным, да и человек он был уже пожилой. Однако ничего не страшился — ни сквозняков, ни дождя, ни мороза. Все чего-то мороковал — налаживал старенький комбайн.
— Работа человека держит на земле, Федя, — говорил он, посмеиваясь, — старого коня — тоже. Покудова работает, потудова и живет.
Поражали Федора выдержка, работоспособность старичков, неутомимо трудившихся в кузне и на восстановлении разгромленного колхозного хозяйства. И сам крепился, преодолевая головокружение и тошноту — последствия контузии — и боли в теле. Но все-таки неокрепший организм не набрался стойкости, поддался: подхватил Федор двустороннее воспаление легких. Отвезли его в больницу в город Азов. Вот там он и встретился с одним из старых работников МТС, с которым был знаком еще до войны. Тот посоветовал ему поступить в школу механизации, открывшуюся при МТС:
— Приходи, Федя. За зиму изучишь трактора, сельхозмашины, пригодится тебе в будущем. Станешь других обучать в своем колхозе. Ну так как? Придешь в школу?
Федор подумал-подумал и решился:
— Как выпустят из больницы, так и приду!
И прямо из больницы, не возвращаясь домой, Федор пришел в школу механизации. Основательно, добросовестно, как привык все делать, осваивал трактора и сельхозинвентарь.
В один из зимних дней приехал к нему дед Андрей, привез кукурузных лепешек, несколько круто сваренных яиц — большая роскошь! — и письмо от Гали. Она по-прежнему находилась на фронте, была связисткой.
«Федя, милый… Вот как вышло — ты дома, а меня там нет. Снова мы врозь. А я и уходила на фронт, потому что мечтала: буду с тобой вместе в одной части… Но надела шинель, приняла военную присягу и тут уж не могла выбирать, что самой хотелось. Федя, родной мой, скоро конец войны, скоро будем вместе…»
Дед Андрей ходил по классам школы механизации, где стояли разобранные машины, двигатели тракторов в разрезе, рассматривал всякие схемы и диаграммы, требовал пояснений, потом сказал: